ГАЛЕРЕЯ РАБОТ
Посещение картины
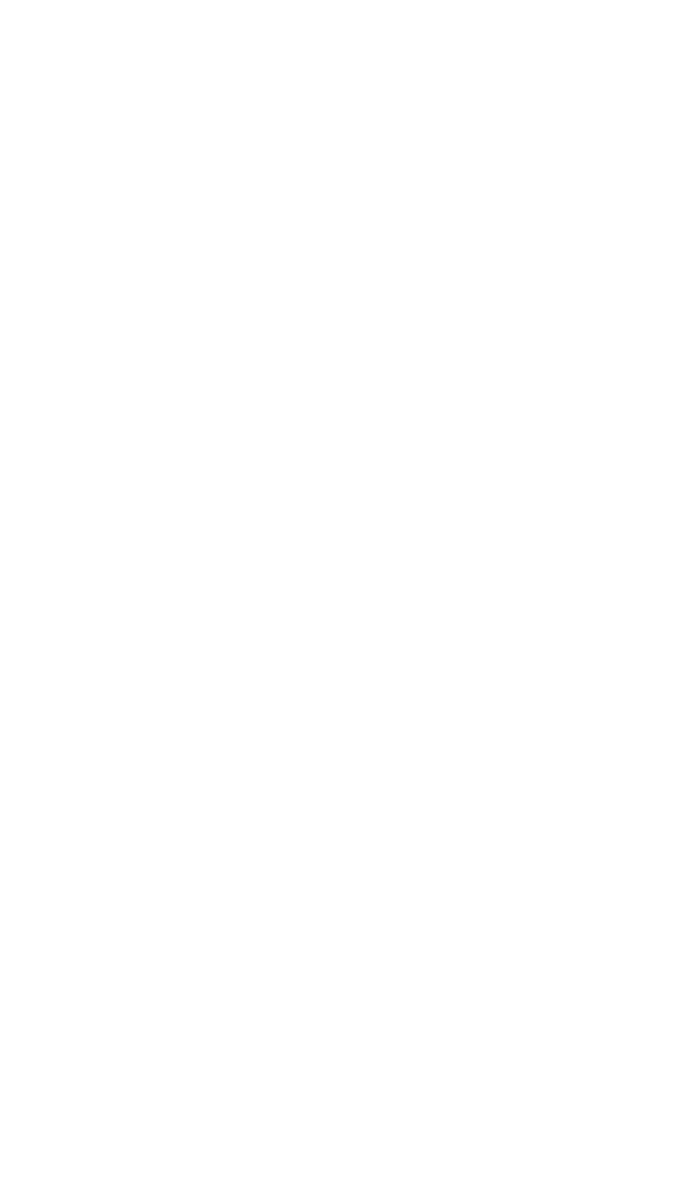
Фотокопия коллажа с использованием репродукций картин «Толедо в грозу» (1596–1600, Эль Греко) и «Мои герои» (1964, Игорь Симонов).
Месторасположение неизвестно
Месторасположение неизвестно
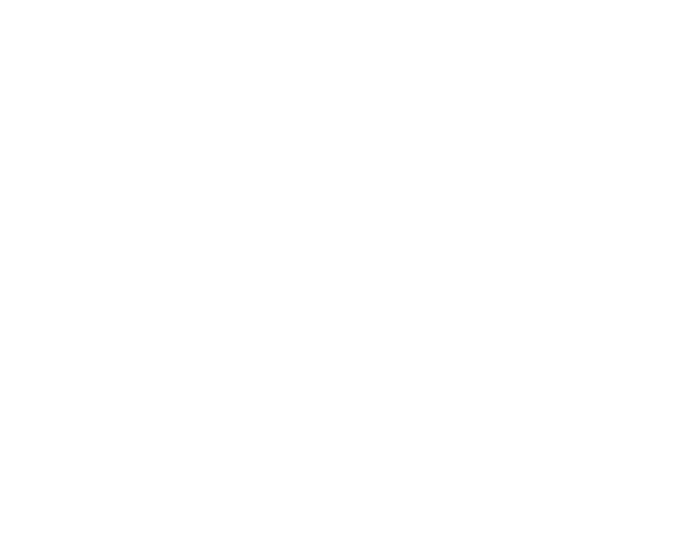
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Даная» (1636–1647, Рембрандт) и кадра из диафильма «Наша Родина». 39,8×31,0
Собственность семьи автора
Собственность семьи автора
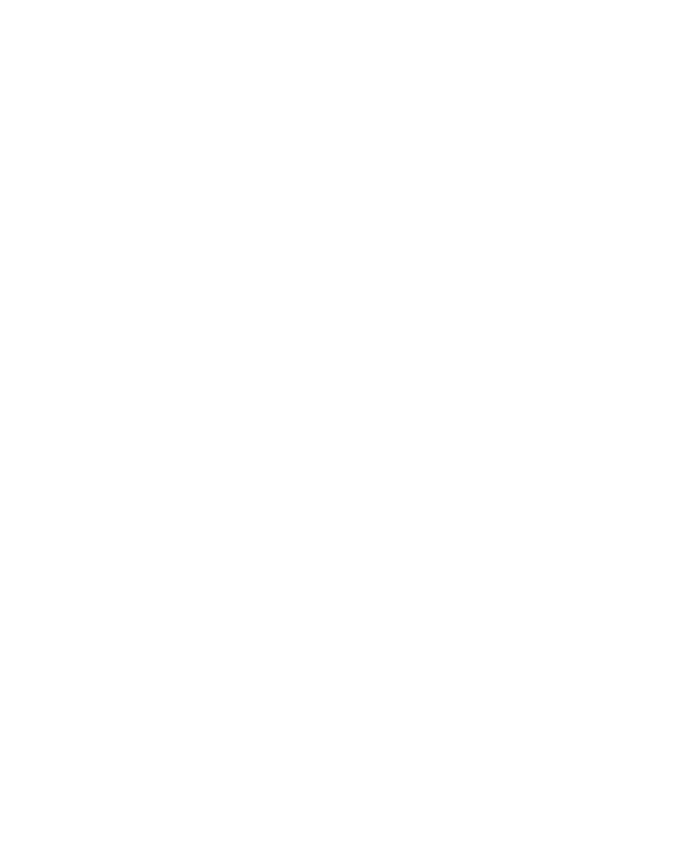
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Мавзолей Тадж-Махалф в Агре» (1874–1876, Василий Верещагин). 26,8×21,7
Художественный музей Зиммерли
Художественный музей Зиммерли
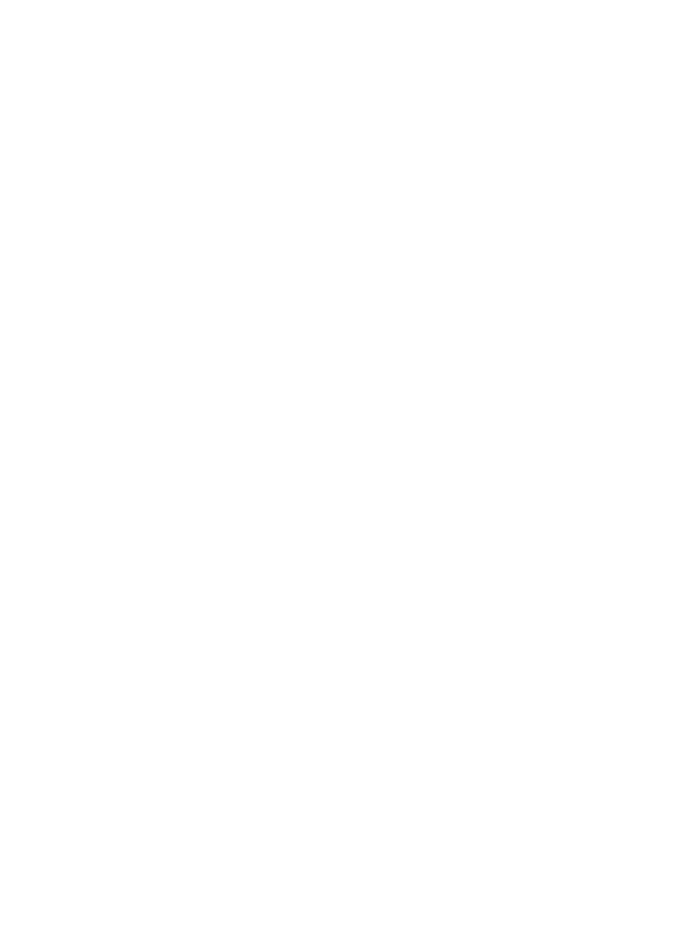
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Счастливые возможности качелей» (ок. 1767, Жан-Оноре Фрагонар).
32,5×24,5
Собственность семьи автора
32,5×24,5
Собственность семьи автора
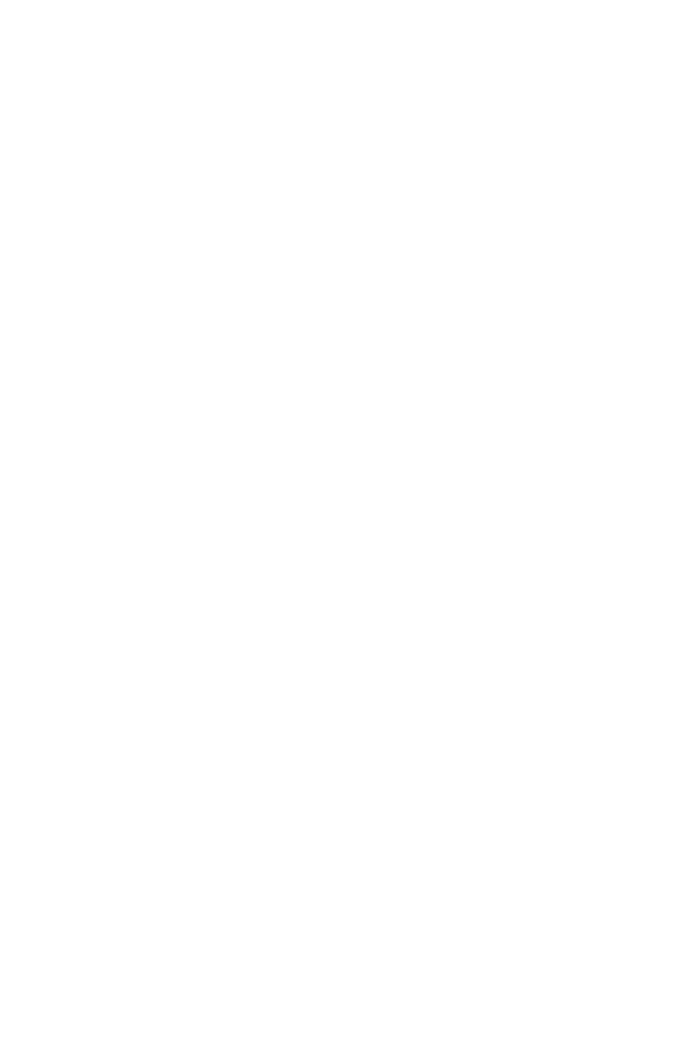
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Пейзаж со сценой единоборства Геркулеса и Какуса» (ок. 1660, Никола Пуссен).
31,1×20,6
Художественный музей Зиммерли
31,1×20,6
Художественный музей Зиммерли
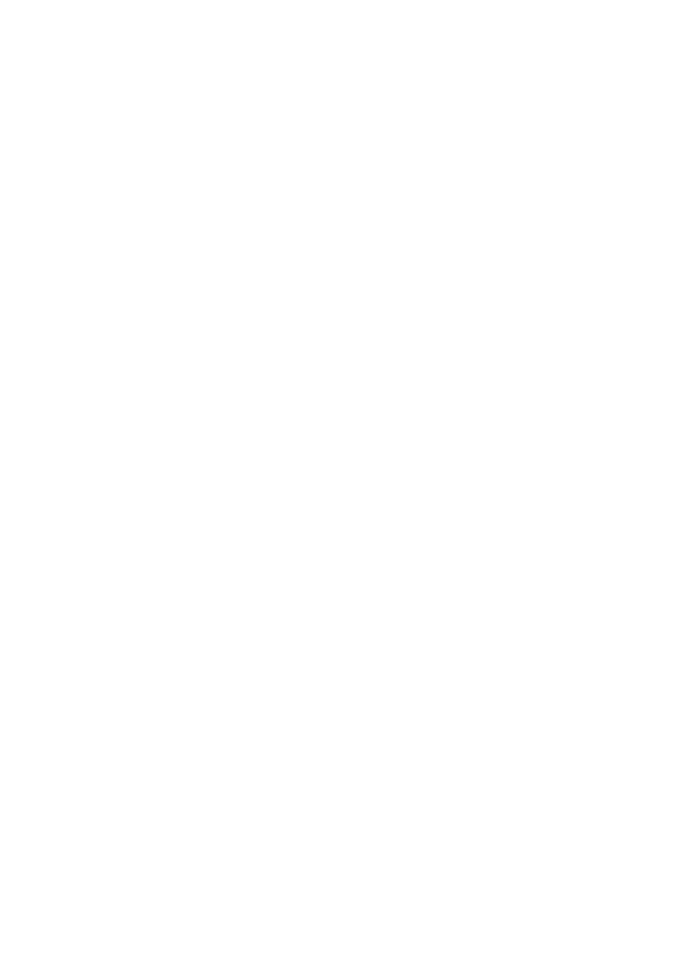
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Рожь» (1878, Иван Шишкин).
33,0×24,5
Художественный музей Зиммерли
33,0×24,5
Художественный музей Зиммерли
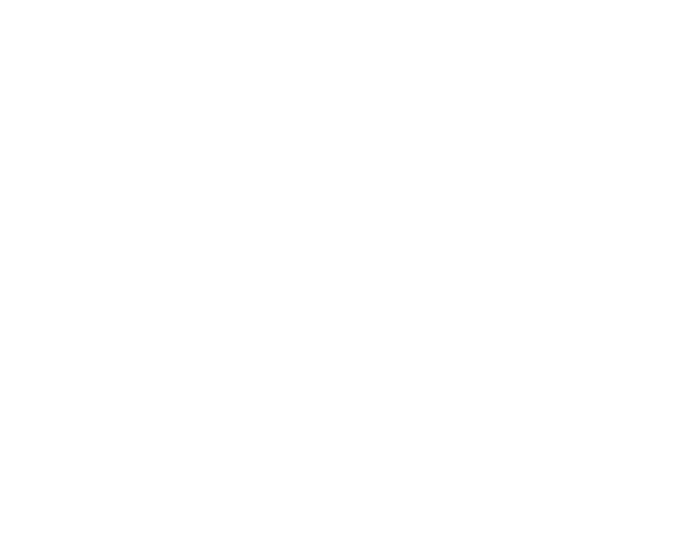
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Стадо в лесу» (1864, Иван Шишкин).
33,0×43,3
Художественный музей Зиммерли
33,0×43,3
Художественный музей Зиммерли
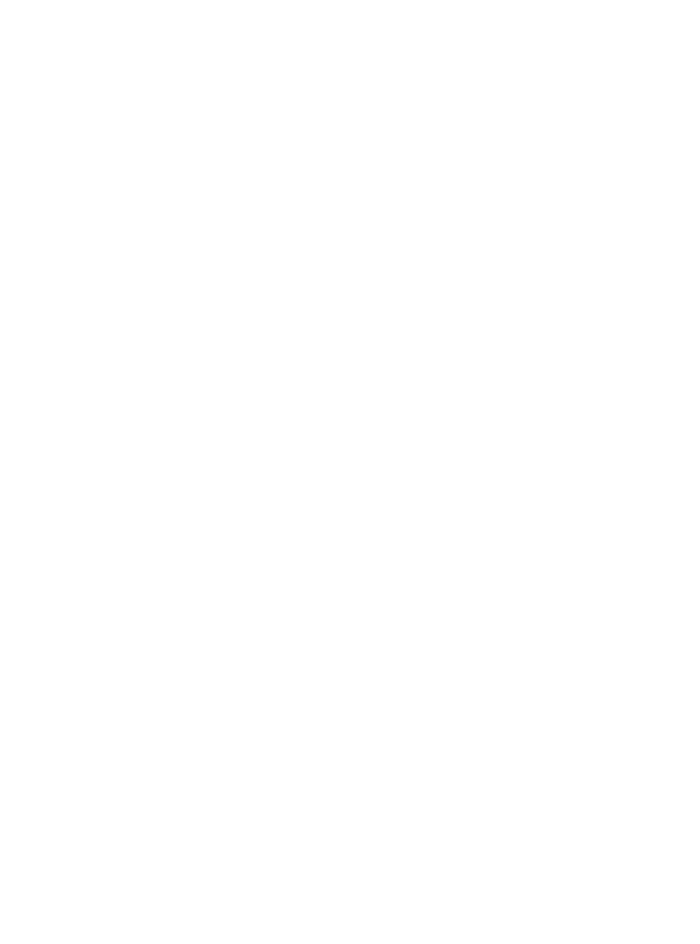
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Осенний пейзаж. Парк в Павловске» (1888, Иван Шишкин).
30,0×22,2
Художественный музей Зиммерли
30,0×22,2
Художественный музей Зиммерли
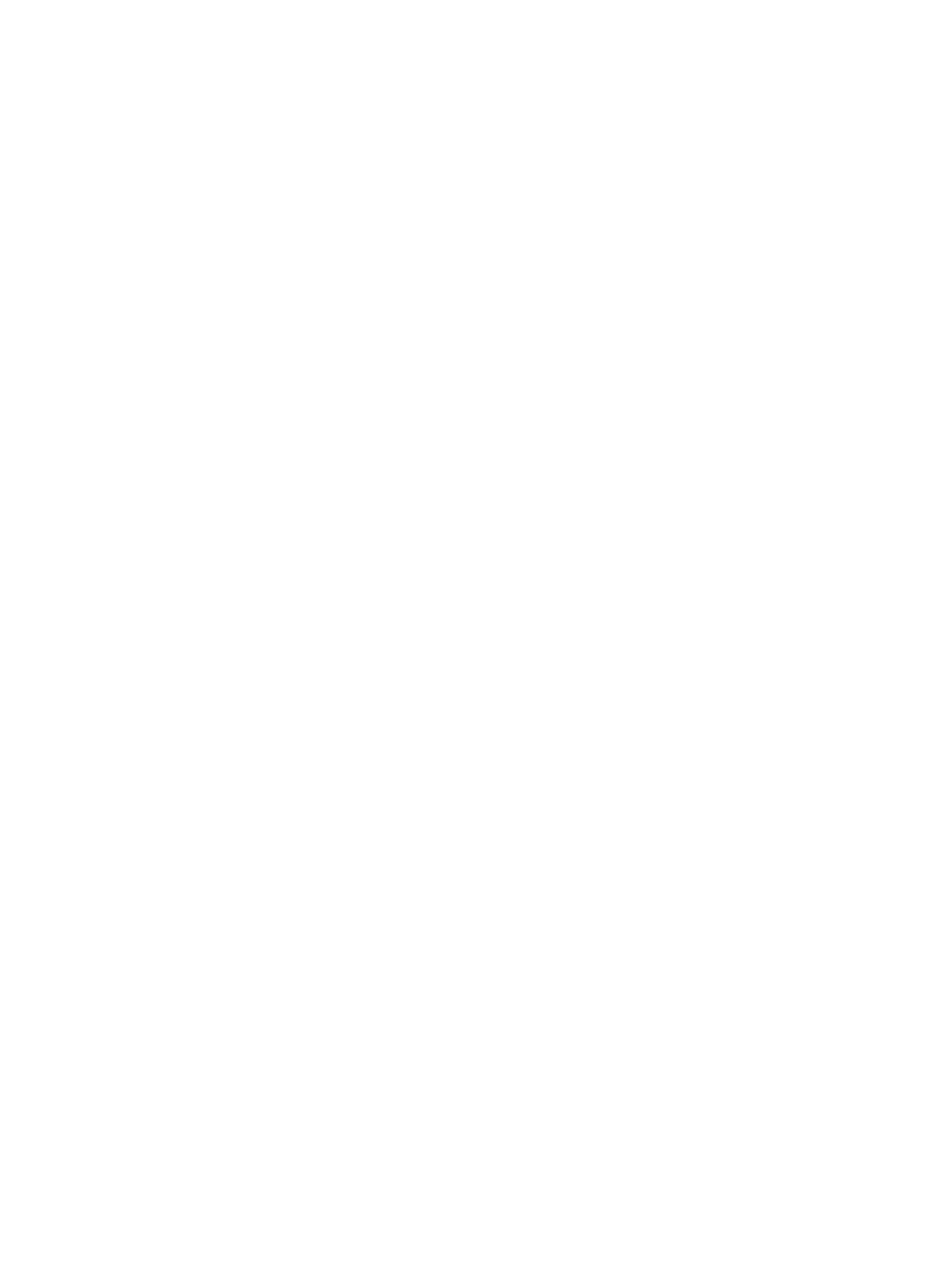
Счастливыми случайностями качания на качелях. 1991
«Главное во всех коллажах, чтобы должным образом работал свет, чтобы нужные предметы были освещены или, наоборот, остались в тени, как бы скрыты от зрителя. Все это очень важно: свет везде играет ведущую роль, без него бы не состоялось ощущение какого-то печального или радостного события», — говорил Гущин. В коллаже c картиной Ж.-О. Фрагонара «Счастливыми случайностями качания на качелях» источником света для темной, мрачной очереди на переднем плане стала сцена с девушкой: «Здесь ценно то, что свет, который вырисовал это пространство, … [идет] изнутри качелей… с самой девушкой». «Толпа какая-то темная, из другого пространства, из другой темы и жизни, … группа людей, которая неожиданно оказалась в центре этого действа», в центре картины. Искусство способно перейти границу реальности, его сила заключается в том, что оно может нас вовлечь в свое пространство. Оно дает надежду на лучшее даже в самые сложные времена: «Они как бы в темном мире живут, а оказались в этом свету, ирреальном, немного неожиданном…». Искусство дает надежду, дает возможность выхода из беспросветной реальности в идеальное пространство, возможность попасть в платоновский мир идей.
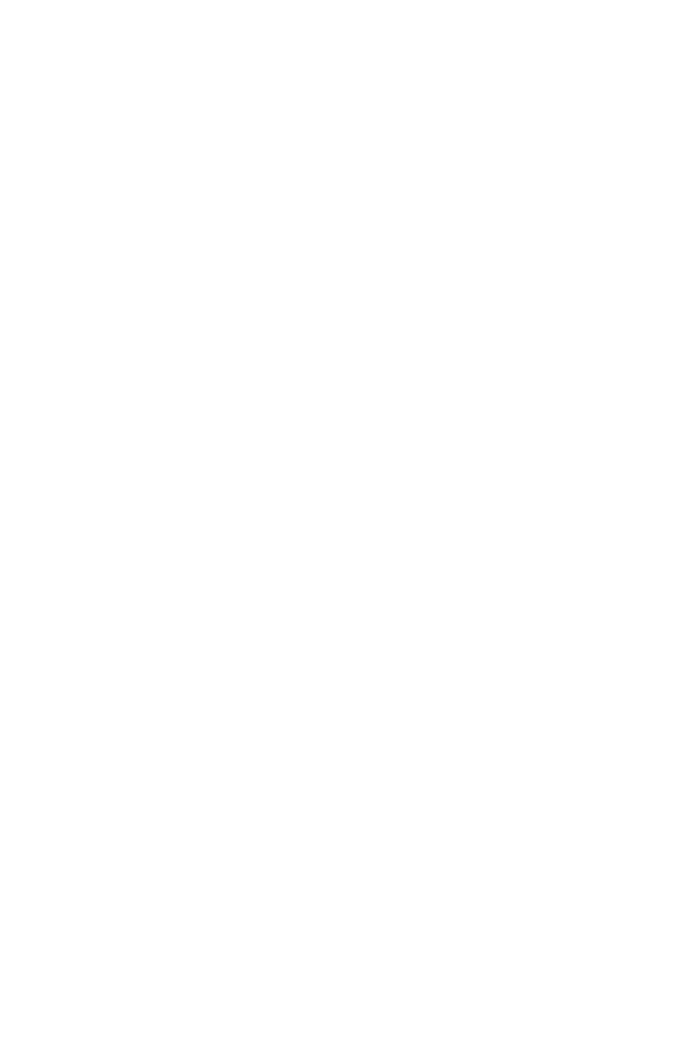
Мифологический пейзаж с пионерами. 1977
В коллаже «Мифологический пейзаж с пионерами», дети, сидящие на берегу моря, не замечают сцену единоборства Геркулеса и Какуса, заимствованную с пейзажа Н. Пуссена, на фоне которого они занимаются своими делами: «Простая группа пионеров отдыхает в лагере. Все радостные и при этом не обращают внимания, что на горе лежит поверженный Гераклом мифологический персонаж [Какус]. Собственно, это и есть главная мифология. Но они к этому безразличны и не заинтересованы. Это печальное событие, потому что они лишают себя сразу, сходу, знания истории и ощущения того, что было за какое-то время до них».
Без мнения эксперта люди не могут понять, что прекрасное находится рядом с ними. Обратим внимание на то, как изменилось восприятие картины при коллажировании. У Пуссена акцент был на природе, в коллаже Геркулес и Какус – тоже часть ландшафта, персонифицированное выражение мощи природы. У Пуссена изображен архаичный мир в своем расцвете, миф находится в становлении. У Гущина Геркулес и Какус монолитны с пейзажем, они часть легенды для туристов, приехавших на море. У Пуссена на переднем плане изображен бог этого места и реки Тиберин и наяды с дриадами: «самое интересное, что там, вдали находятся персонажи из другой мифологии». В коллаже для первого плана, вероятно, использовано фото самого известного советского детского пионерского лагеря, расположенного на море, «Артека». Таким образом, автор проводит параллель между мифологией на картине Пуссена и античными легендами о Крыме, о которых рассказывают во время экскурсий по этим местам.
Без мнения эксперта люди не могут понять, что прекрасное находится рядом с ними. Обратим внимание на то, как изменилось восприятие картины при коллажировании. У Пуссена акцент был на природе, в коллаже Геркулес и Какус – тоже часть ландшафта, персонифицированное выражение мощи природы. У Пуссена изображен архаичный мир в своем расцвете, миф находится в становлении. У Гущина Геркулес и Какус монолитны с пейзажем, они часть легенды для туристов, приехавших на море. У Пуссена на переднем плане изображен бог этого места и реки Тиберин и наяды с дриадами: «самое интересное, что там, вдали находятся персонажи из другой мифологии». В коллаже для первого плана, вероятно, использовано фото самого известного советского детского пионерского лагеря, расположенного на море, «Артека». Таким образом, автор проводит параллель между мифологией на картине Пуссена и античными легендами о Крыме, о которых рассказывают во время экскурсий по этим местам.
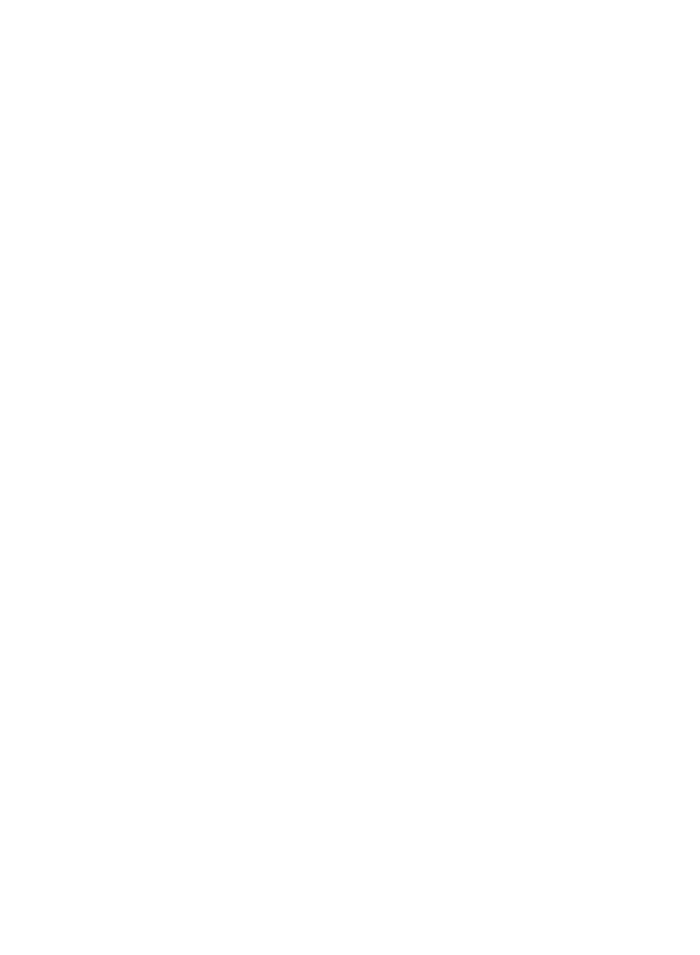
Посещение «Ржи» Шишкина. 1977
В коллаже «Посещение “Ржи” Шишкина» Геннадий Гущин поднимает проблему обесценивания произведения искусства в процессе массовых экскурсий. Когда туристы посещают музеи в составе группы, то осмотр шедевров становится обязательным пунктом экскурсионной программы, на которую отведено определенное время.
Можно ли за несколько минут почувствовать живопись? Насколько правомочен такой потребительский подход к искусству? Автор показывает, как индивидуальное эстетическое переживание подменяется коллективным действием, когда становится частью образовательной программы.
Можно ли за несколько минут почувствовать живопись? Насколько правомочен такой потребительский подход к искусству? Автор показывает, как индивидуальное эстетическое переживание подменяется коллективным действием, когда становится частью образовательной программы.
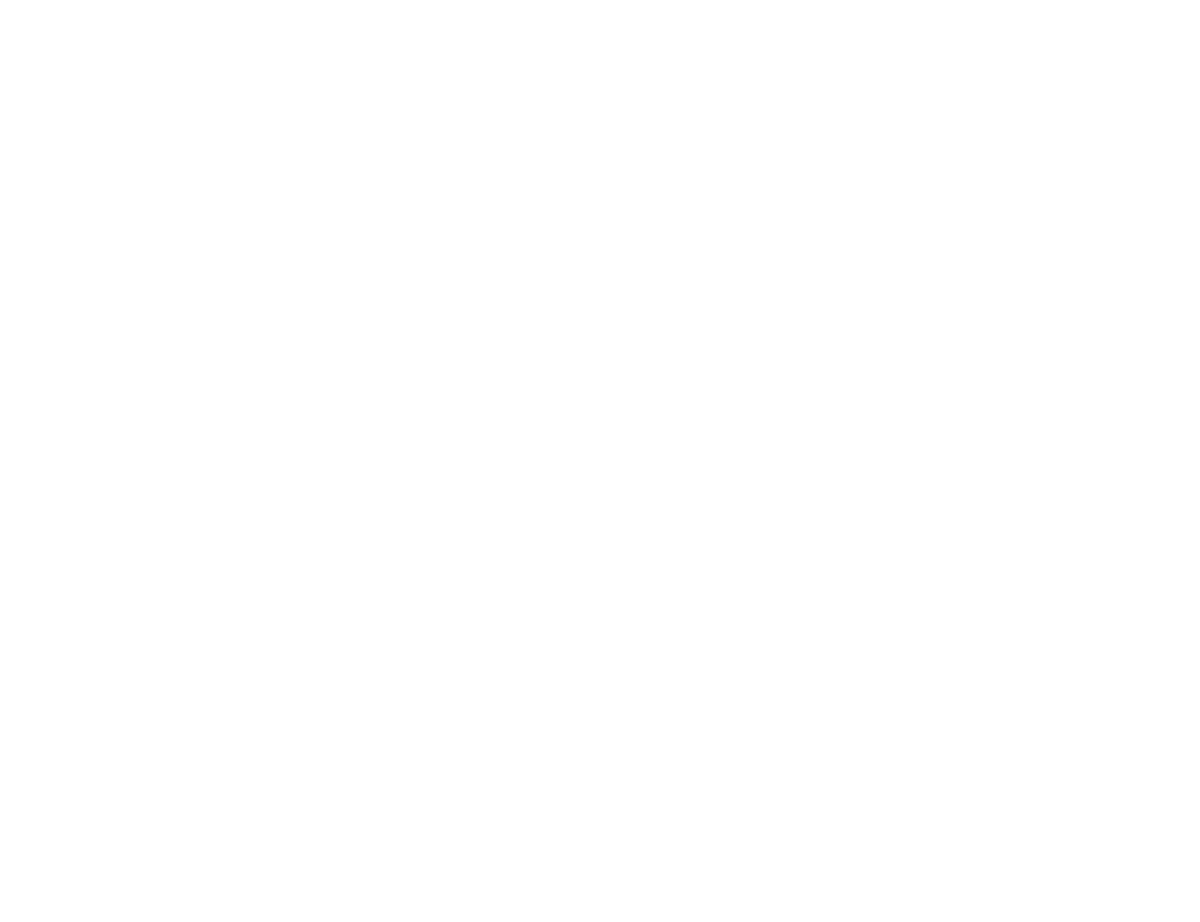
Бригада в лесу. 1978
Лесорубы, работающие по найму, несут в себе опасность для случайного встречного и всей природы в коллаже «Бригада в лесу». Помещенные в пейзаж И. И. Шишкина рабочие, которые сидят на длинном бревне, отчасти могут напомнить знаменитую фреску «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи из церкви Санта-Мария делле Грацие в Милане. Прохожий, увидев лесорубов на фоне прекрасного пейзажа, оказался невольным зрителем
этой сцены — аллюзии к шедевру флорентийского живописца.
этой сцены — аллюзии к шедевру флорентийского живописца.
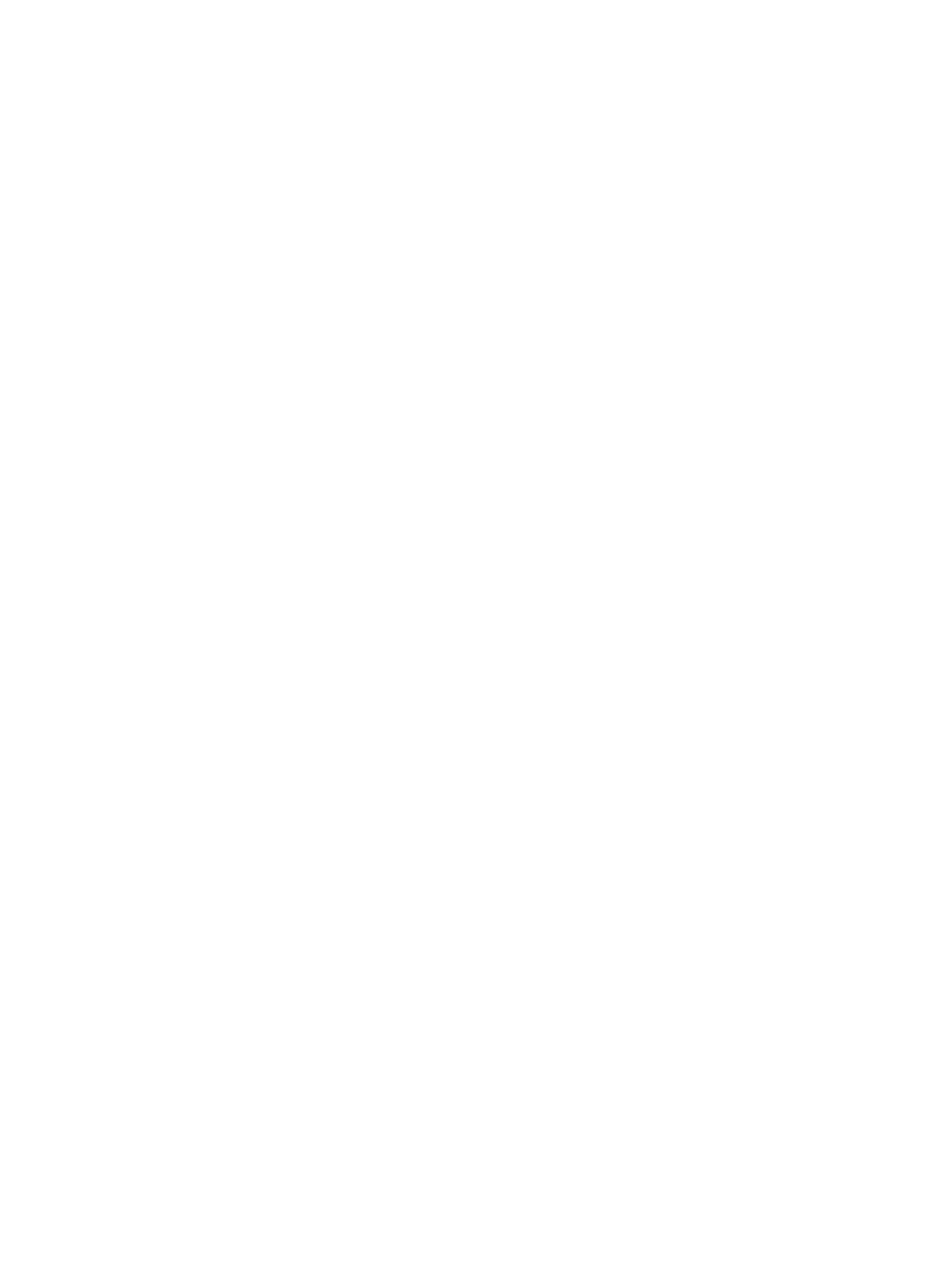
Безмятежная старость. 1970
Героиня коллажа «Безмятежная старость» видела когда-то картину И. И. Шишкина «Осенний пейзаж. Парк в Павловске», но жизнь ее была настолько трудной, что отдыхать на фоне такого пейзажа она никогда бы не смогла: «а смысл в том, что она находится в месте, в которое она никогда бы не могла попасть по своему желанию <…> женщина находится в парке, при полном ощущении благополучия и покоя, в котором она бы не могла быть в простой жизни. <…> У родителей моих не было никогда [безмятежности в таком месте]. Если представить коллаж маме или тетушке, они были бы по- трясены». И вокруг нее то ли греза, то ли сон, то ли воспоминание о картине, как лучшем увиденном месте: «Это как бы случайный эпизод ее жизни, который она ценит и восторгается им. Но, на самом деле, она в полусне находится». Вокруг нее образовалось пространство, где хотелось бы провести безмятежную старость: «она заснула так… там комфорт полный. Иллюзия комфорта, кошка небанальной расцветки, и иллюзия такой жизни благополучной, спокойной. <…> Но это вот сновидение, поскольку настоящего такого отдыха она может и не знать. Что это такое, в принципе. <…> Важно, что этот пейзаж Шишкина, ее благополучие вот на этом держится, что она видит пейзаж, который никогда она, может, раньше не могла встретить, только по слухам где-то. А здесь она находится в этом роскошном месте. Этот пейзаж написан Шишкиным. <…> Это напряжение создано пейзажем, роскошным, потому что бабушка — это понятно, а, глядя на пейзаж, ты бы и сам хотел в нем очутиться. Что жизнь иллюзорна, а благополучие — эфемерно. И если и возникает что-либо, то на какое-то мгновение».
Два мира
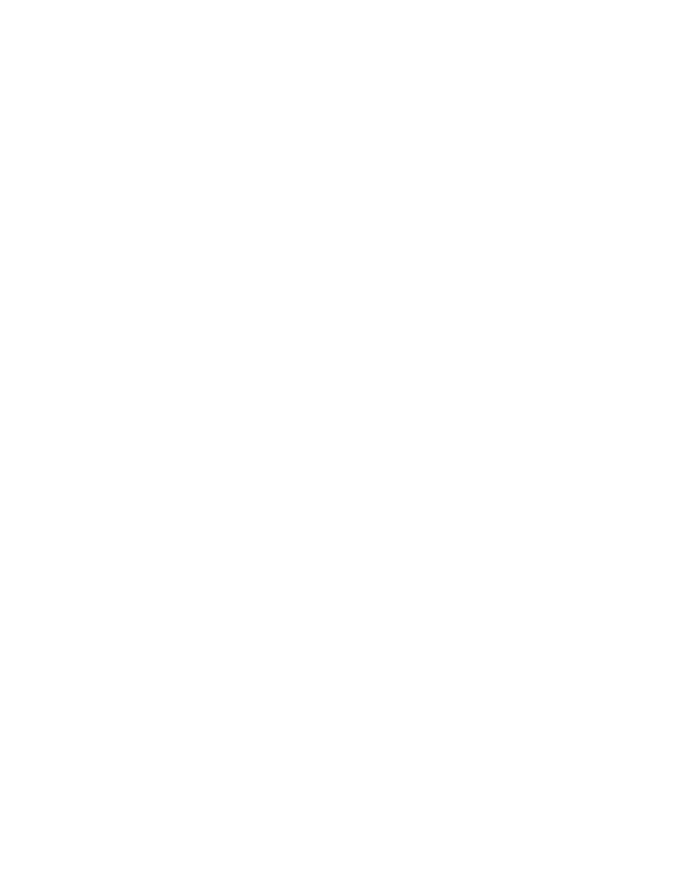
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Завтрак аристократа» (1849–1850, Павел Федотов). 29,5×23,5
Собственность семьи автора
Собственность семьи автора
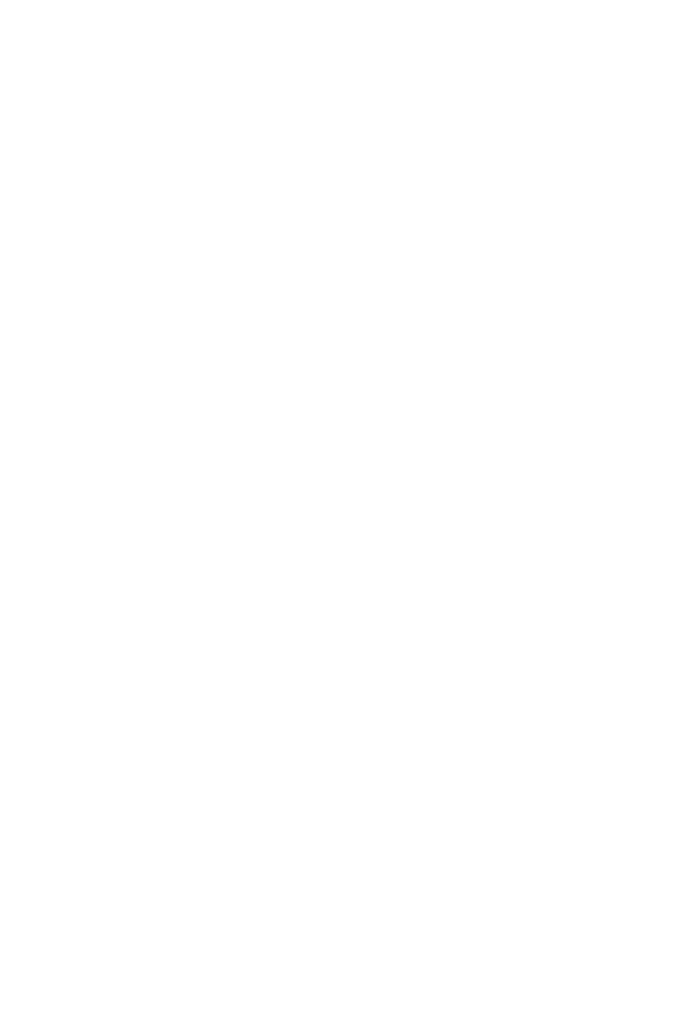
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Прощание А. С. Пушкина с морем» (1887, Иван Айвазовский в соавторстве с Ильей Репиным) и «Портрет В. И. Ленина» (1927, Исаак Бродский). 145,0×100,0
Собственность семьи автора
Собственность семьи автора
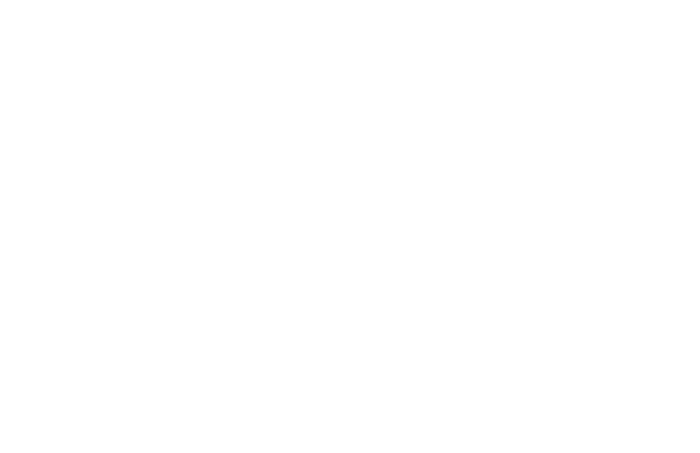
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Гитарист-бобыль» (1865, Василий Перов) и «Ленин в Смольном» (1930, Исаак Бродский). 33,1×50,5
Художественный музей Зиммерли
Художественный музей Зиммерли
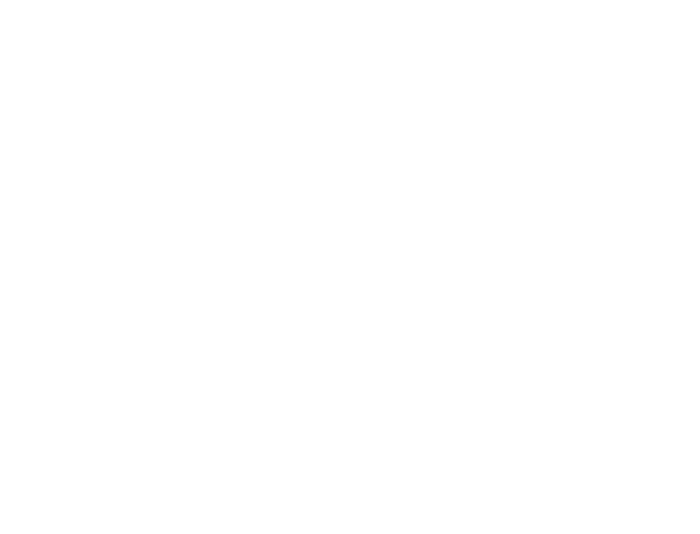
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Ликбез» (1972, Пётр Павлов). 92,0×120,0
Собственность семьи автора
Собственность семьи автора
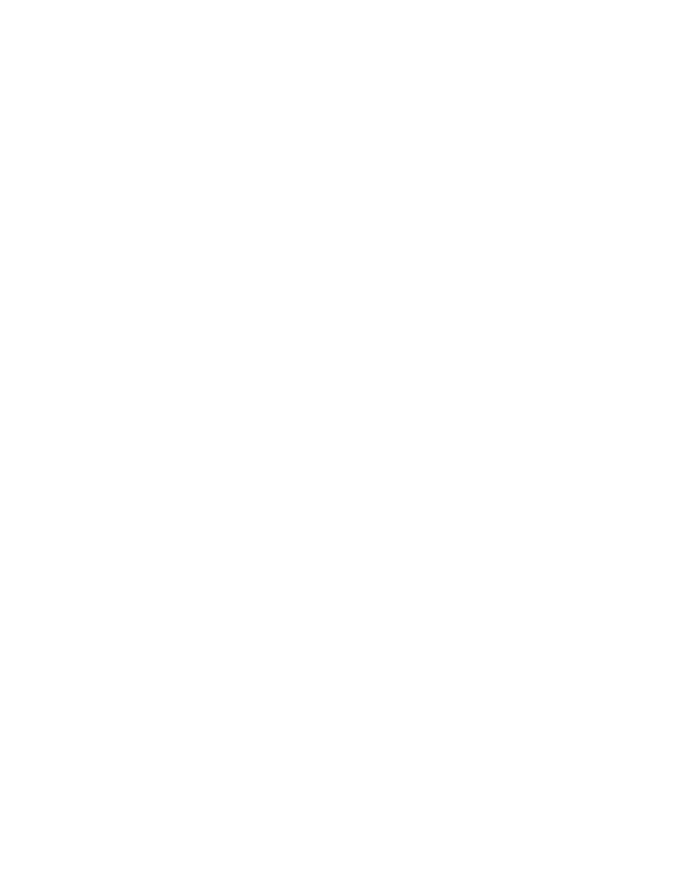
Фотокопия коллажа с использованием репродукции картины «Степан Разин» (1904–1906, Василий Суриков) и изображения на упаковке одних из первых колготок в СССР.
Месторасположения неизвестно
Месторасположения неизвестно
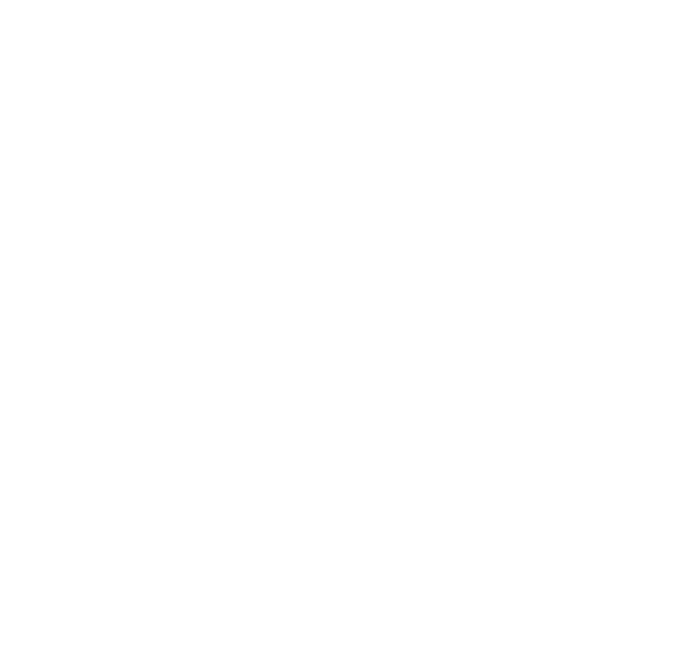
Фотоколлаж с использованием изображения павильонного зала Эрмитажа. 35,0×33,0
Собственность семьи автора
Собственность семьи автора
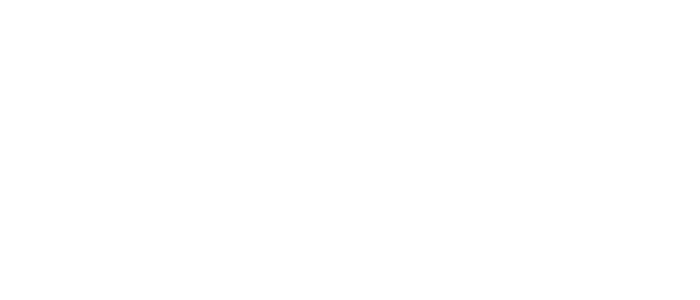
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Демон сидящий» (1890, Михаил Врубель) и страницы календаря с изображением крейсера «Аврора» и салюта над Кремлем. 25,0×59,0
Собственность семьи автора
Собственность семьи автора
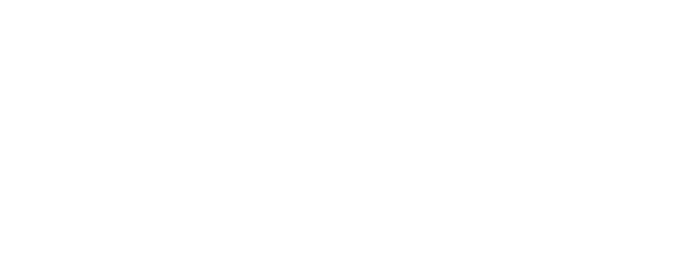
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Ковер-самолет» (1880, Виктор Васнецов)
22,5×58,0
Собственность семьи автора
22,5×58,0
Собственность семьи автора
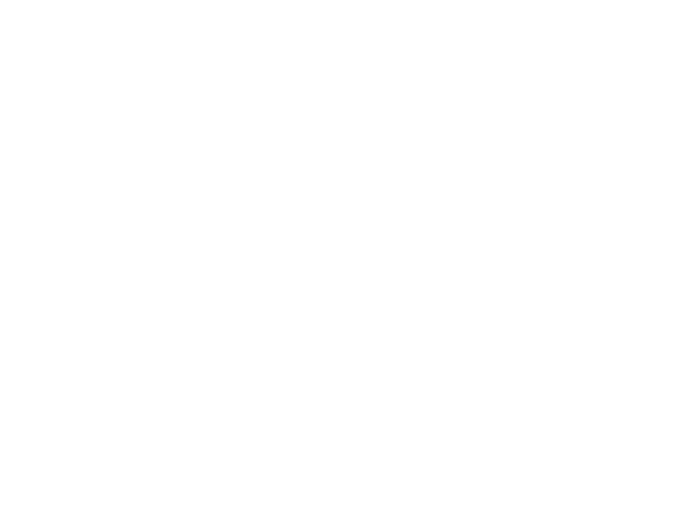
Фотокопия коллажа с использованием репродукции картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1883–1885, Илья Репин)
Месторасположение неизвестно
Месторасположение неизвестно
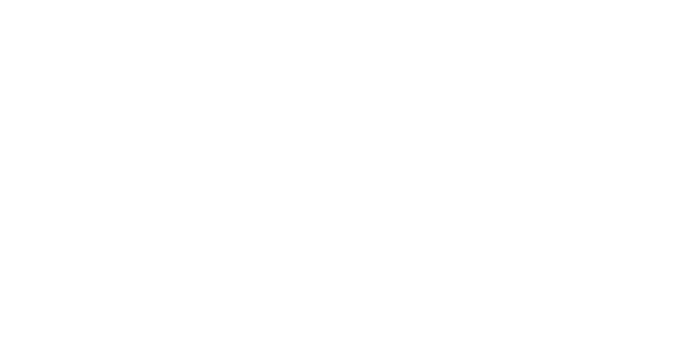
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Боярыня Морозова» (1884–1887, Василий Суриков) и «Павлик Морозов» (1952, Никита Чебаков).
24,1×46,6
Художественный музей Зиммерли
24,1×46,6
Художественный музей Зиммерли
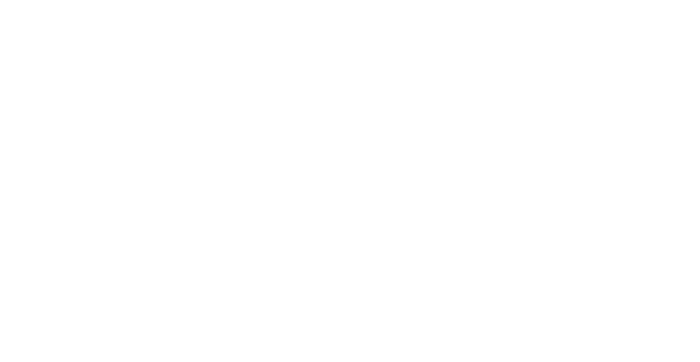
Фотокопия коллажа с использованием репродукций картин «Опять двойка» (1952,
Фёдор Решетников) и «После собрания» (1953, Марк Клионский)
Месторасположение неизвестно
Фёдор Решетников) и «После собрания» (1953, Марк Клионский)
Месторасположение неизвестно
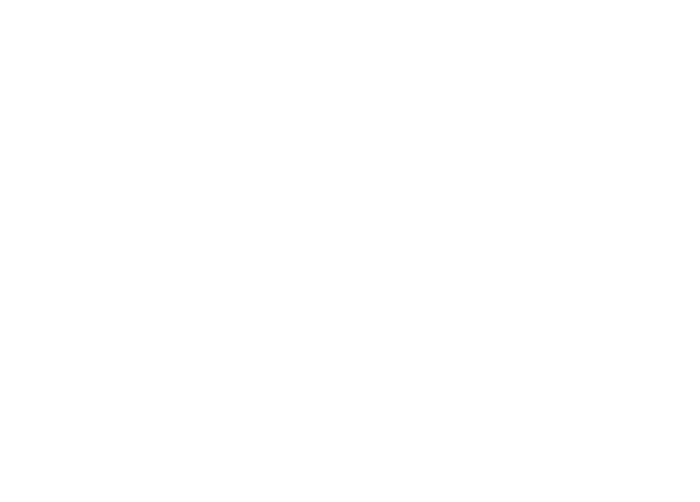
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Родное дите на периферию?!» (1954, Ахмет Китаев) из каталога Всесоюзной художественной выставки, посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции (1954, Москва).
30,8×24,8
Собственность семьи автора
30,8×24,8
Собственность семьи автора
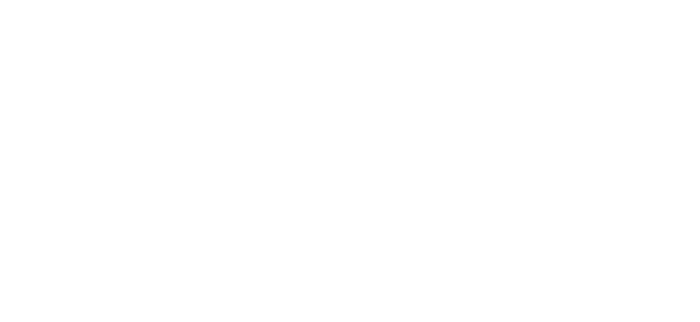
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Бурлаки на Волге» (1870−1873, Илья Репин из набора «Шедевры Государственной Третьяковской галереи».) и изображения ледокола «Россия».
23,8×51,0
Художественный музей Зиммерли
23,8×51,0
Художественный музей Зиммерли
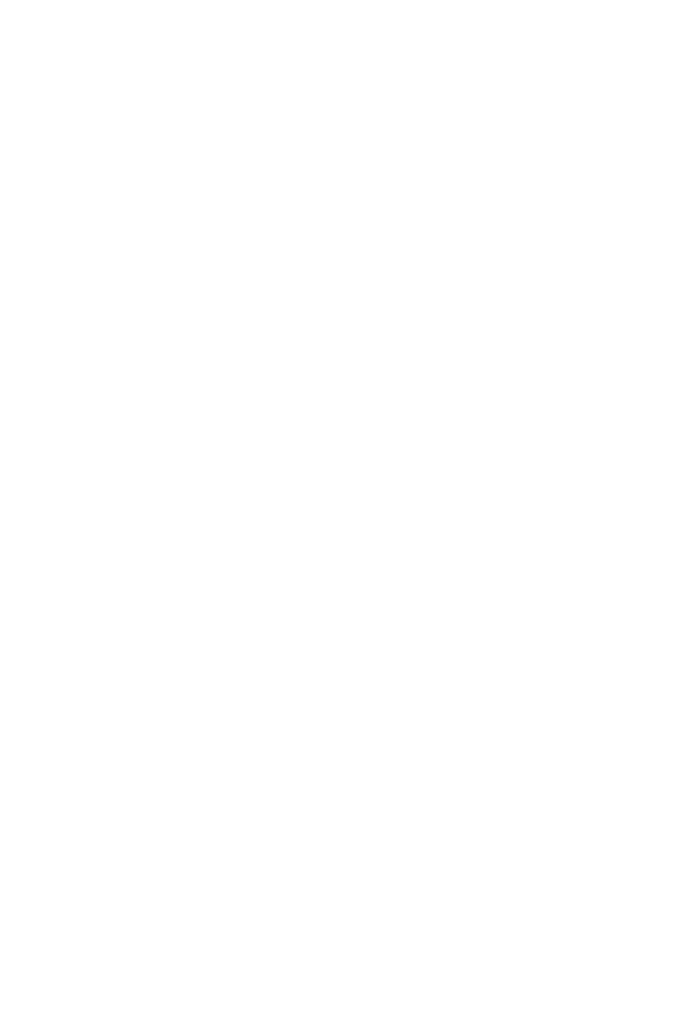
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Мечты» (1964, Степан Репин).
35,8×24,8
Художественный музей Зиммерли
35,8×24,8
Художественный музей Зиммерли
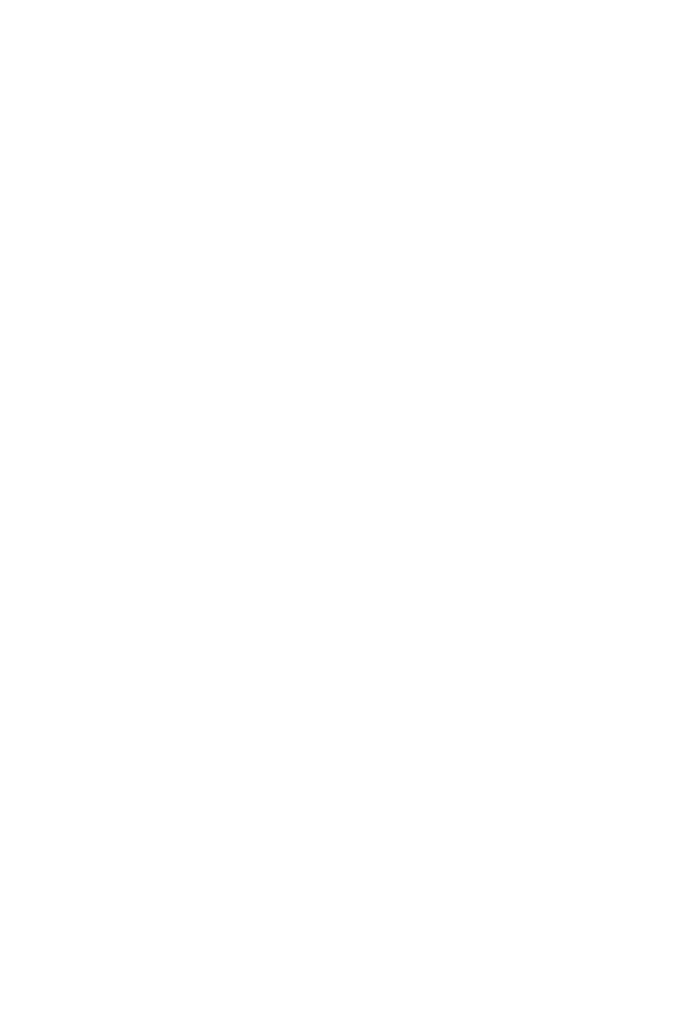
Фотоколлаж с использованием фрагментов полиэтиленовых пакетов с выставки «200 лет США» 1976 года (Сокольники).
37,5×47,8
Собственность семьи автора
37,5×47,8
Собственность семьи автора
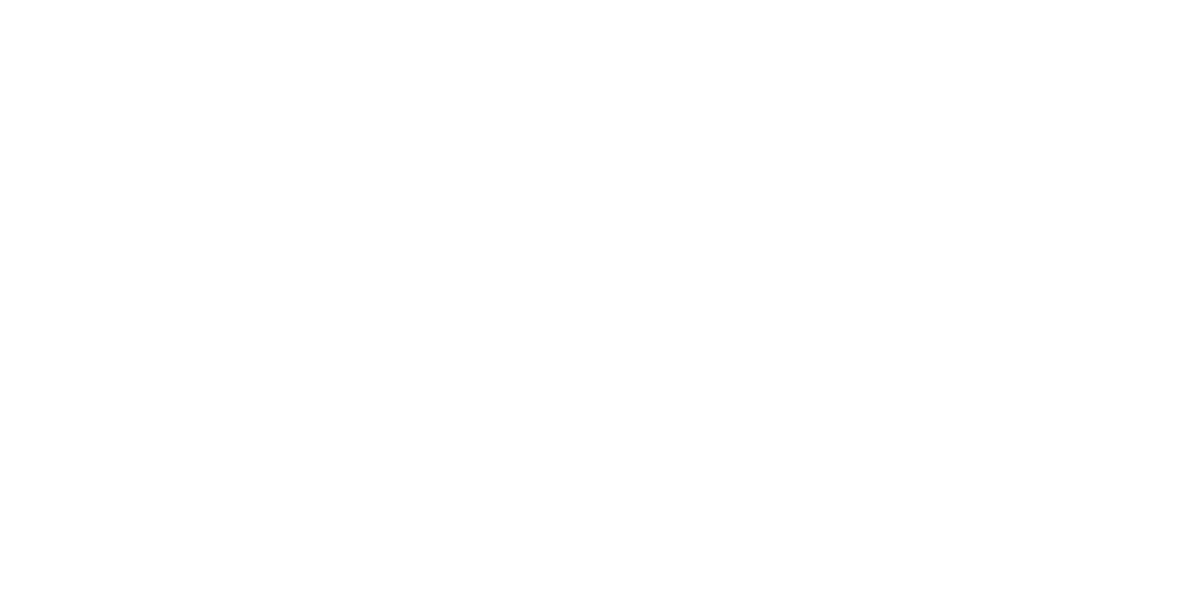
Боярыня и Павлик Морозовы. 1989
В коллаже Гущина «Боярыня и Павлик Морозовы» эти разные персонажи стали родственниками. Мальчик предал не только отца, но и бабку. В итоге его бабушку «отправили в ссылку». А он не мог не донести на нее, «потому что он пионер, у него галстук на груди». Примечательно композиционное положение Павлика в работе: он «стоит дальше юродивого»: «Там юродивый, а он <Павлик>, как бы, человек новый, и у него получились, в моем представлении, вот такие юродивые понятия <…> Юродивый, что значит юродивый? Тот, кто уродливый, обычно считалось. Но это неправда, потому что юродивого слушали, и он о чем-то важном говорил и предупреждал. Павлик — это „как бы“ человек, являющийся родственником боярыни Морозовой. Значит, он уже социально с ней никак не связан, <…> связан, как внучок или правнучек этой боярыни Морозовой. Как бы он имеет отношение к юродивому, но в другом понятии „юродивый“».
Павлик Морозов осуждаем патриархальной моралью как «неправильно поступивший». Но для новых времен его действия верны. Оказывается, что по сравнению с божьим человеком он «другого качества юродивый». Здесь встретились системы ценностей двух разных миров.
Павлик Морозов осуждаем патриархальной моралью как «неправильно поступивший». Но для новых времен его действия верны. Оказывается, что по сравнению с божьим человеком он «другого качества юродивый». Здесь встретились системы ценностей двух разных миров.
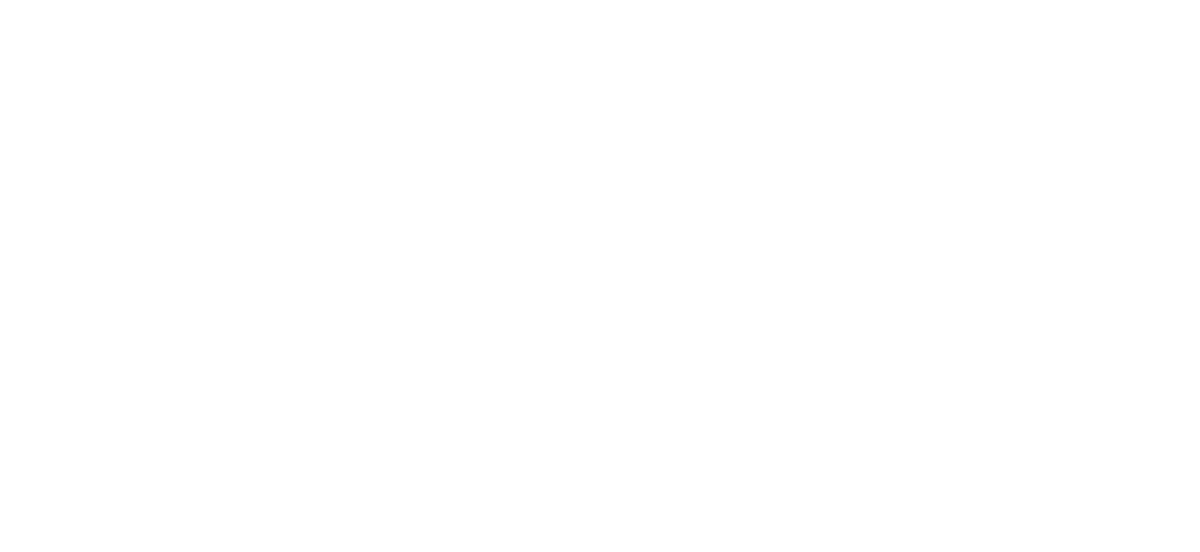
Бурлаки и атомный ледокол «Россия». 1991
Столкновение старого и нового показано и в коллаже «Бурлаки и атомный ледокол „Россия“». Вместо старой баржи маргинальные персонажи с известной картины Репина волокут огромный современный многотонный корабль, который не нуждается в подобной помощи. По словам автора, «это просто называется явление, чудесное явление. Очередное чудо на Волге, во времена Репина. Чудесное явление на Волге».
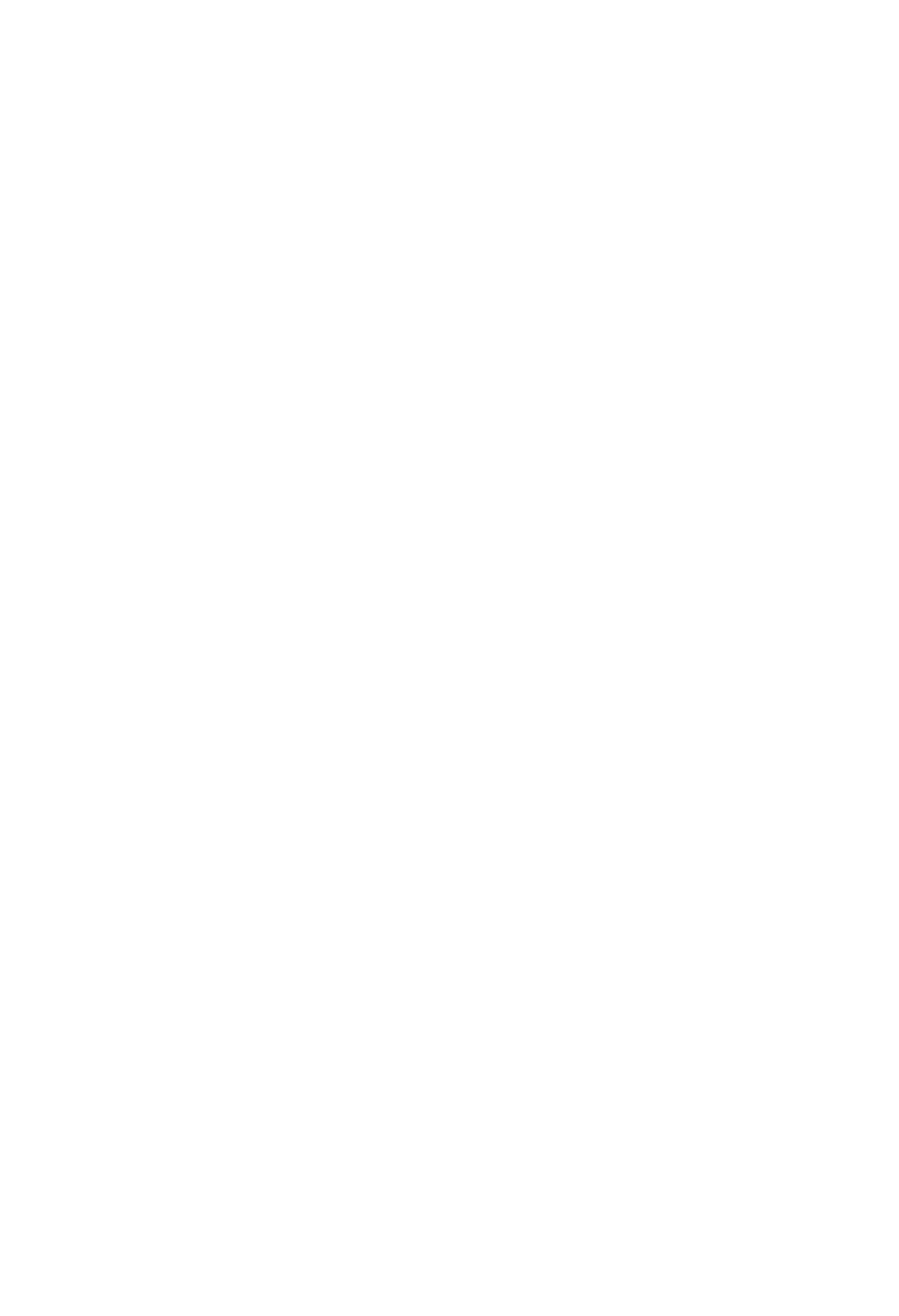
Западное сияние (Девичьи грёзы). 1975
В коллаже «Западное сияние (Девичьи грёзы)» сопоставляется мир мечты и реальность. «Сюжет вполне простой, открытый. Девушки после экзаменов отдыхают, где-то на берегу, что неважно. И, в результате, у них возникает образ Нью-Йорка. Это некая мечта о возможном будущем, которое им хочется знать и понимать. Они толком не знают, может быть, что это Нью-Йорк. Просто такое видение с ними происходит. Какая-то новая реальность, открывшаяся им, она, конечно, потрясает». Для недавних школьниц, вступающих в новый период жизни, неожиданно открываются неведомые ранее горизонты. «Новая жизнь какая-то начинается. Новая жизнь, новые мечты, новые видения. Я, например, в свое время, когда поступал, у меня не было такого видения. А у них почему-то появилось… тут интересный образ небоскрёбов, которые явлены в пространстве на какое-то короткое время. Это же не будет вечно… Это недолгое такое видение, оно завораживает и создает иллюзию возможного благополучия. Не материального, а будущие возможности высказываться, что-то говорить… Ну, что-то делать свое. <…> Просто интересно то, что люди, столкнувшиеся с необъяснимым, заворожены этим обстоятельством, вот и все. А так, пространство тут все простое, безыскусное. Небольшие холмики травы. То есть, с одной стороны, это чудесное такое явление, а с другой — очень простое, банальное, бесхитростное». Гущин выбрал фотографию с эффектом умножения архитектурных деталей, расплывающихся в воздухе объектов. Небоскребы, словно мираж, нависают над студентками с картины советского художника Степана Репина. Каким будет будущее для них? Ответа автор не дает, но это очень светлая по эмоциональному состоянию работа.
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
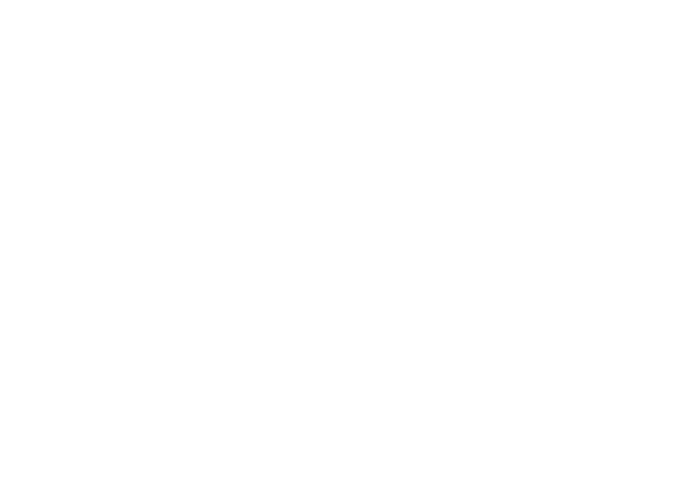
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Танцы у фонтана» (1730−1735, Никола Ланкре) и «В. И. Чапаев» (1955, Василий Китайка)
23,0×32,5
Собственность семьи автора
23,0×32,5
Собственность семьи автора
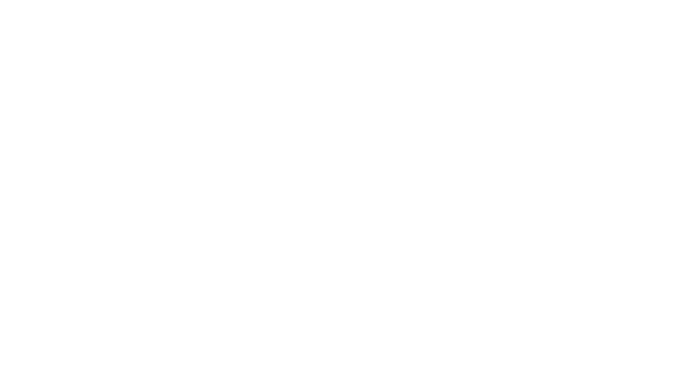
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Богатыри» (1898, Виктор Васнецов) и «Всадница» (1832, Карл Брюллов) из набора «Шедевры Государственной Третьяковской галереи»
85,9×47,0
Собственность семьи автора
85,9×47,0
Собственность семьи автора
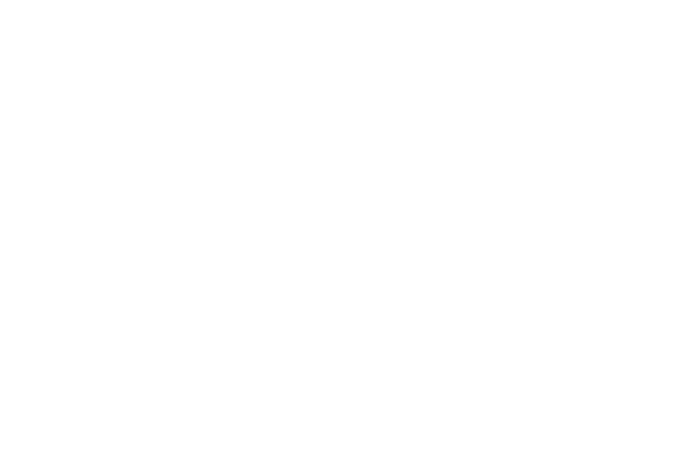
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Утро в сосновом лесу» (1889, Иван Шишкин) и «Пушкин и Пущин в селе Михайловском» (1875, Николай Ге) из набора «Шедевры Государственной Третьяковской галереи»
44,0×62,0
Собственность семьи автора
44,0×62,0
Собственность семьи автора
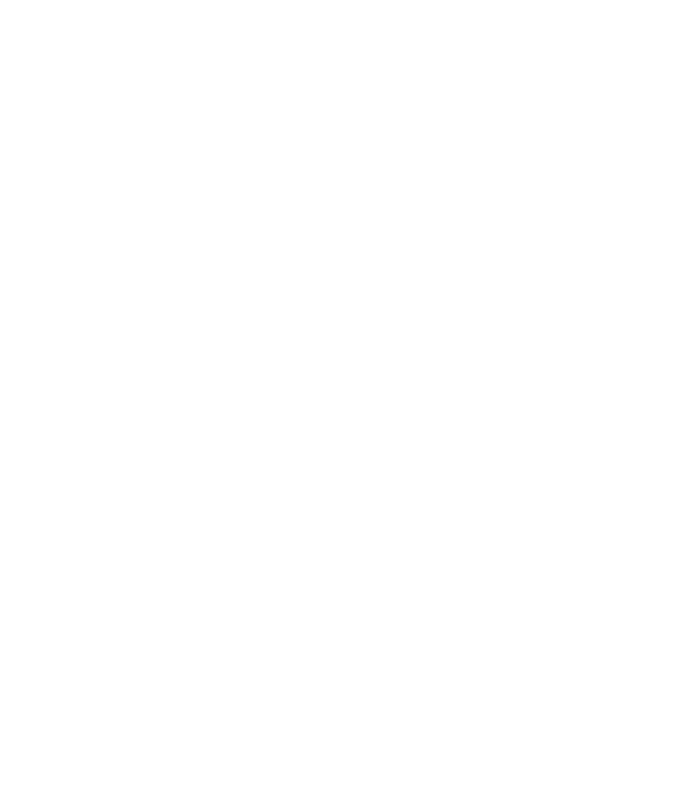
Фотоколлаж с использованием изображения атомного ледокола «Ленин»
25,9×22,6
Художественный музей Зиммерли
25,9×22,6
Художественный музей Зиммерли
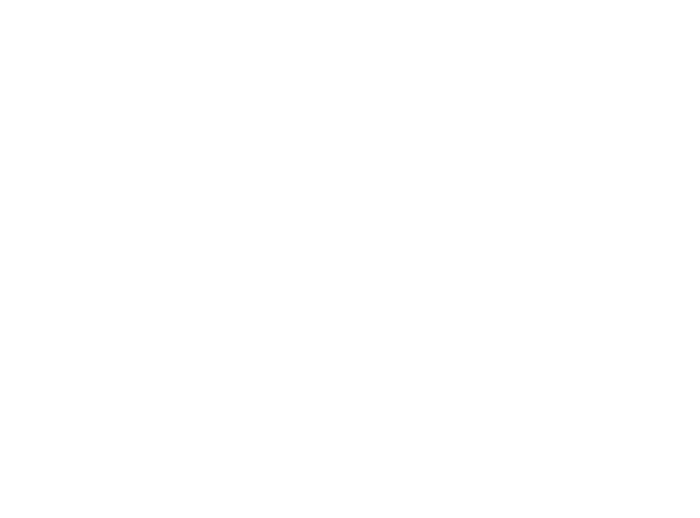
Фотокопия коллажа с использованием репродукции картины «Охотники на привале» (1871, Василий Перов)
Месторасположения неизвестно
Месторасположения неизвестно
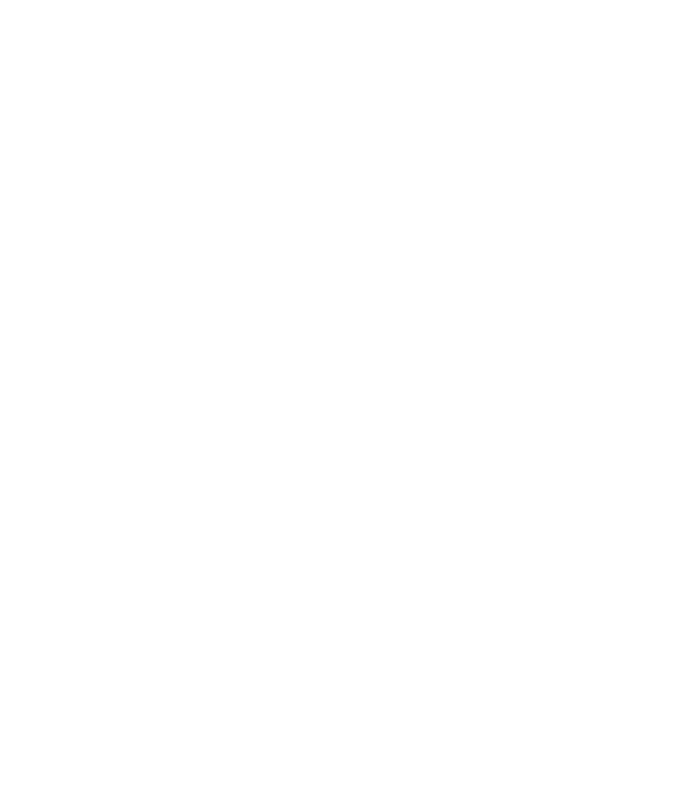
Фотоколлаж с использованием изображений лебедя со страницы
календаря и Майи Плисецкой в роли Умирающего лебедя в балете «Лебединое озеро" из журнала «Огонёк» № 21, май 1976 г.
25,0×20,0
Собственность семьи автора
календаря и Майи Плисецкой в роли Умирающего лебедя в балете «Лебединое озеро" из журнала «Огонёк» № 21, май 1976 г.
25,0×20,0
Собственность семьи автора
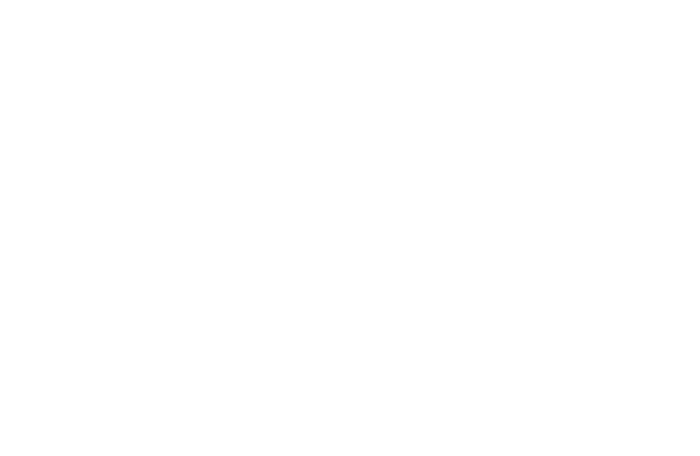
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Утро в сосновом лесу» (1889, Иван Шишкин) и «А. С. Пушкин на Северном Кавказе» (1829, Павел Зарон, Николай Кочетов) из набора «Шедевры Государственной Третьяковской галереи».
25,5×38,9
Художественный музей Зиммерли
25,5×38,9
Художественный музей Зиммерли
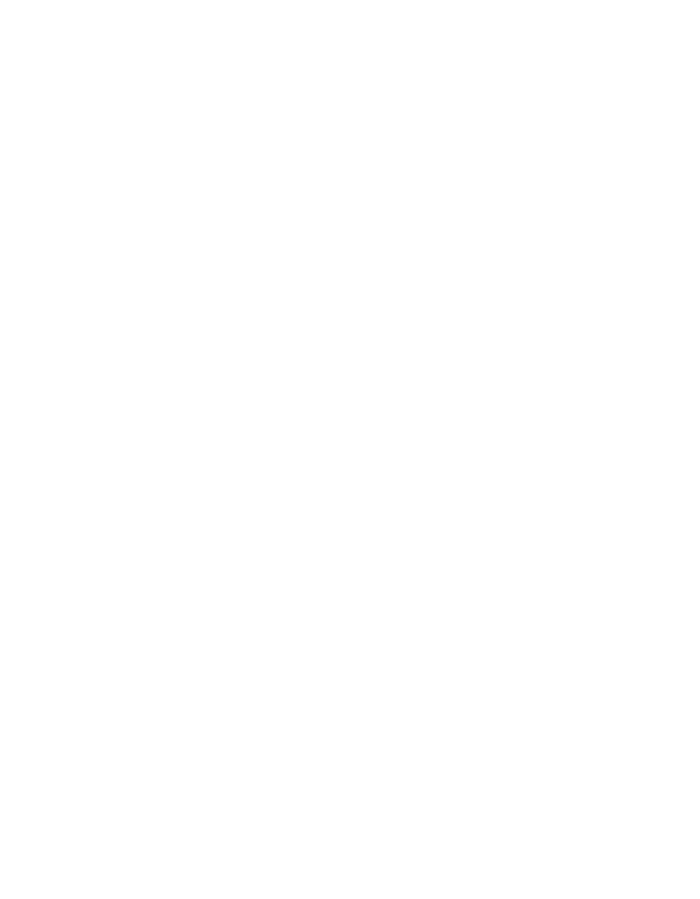
Фотокопия коллажа с использованием репродукции картины «Двери Тимура (Тамерлана)» (1872, Василий Верещагин) из набора «Шедевры Государственной Третьяковской галереи», фотография культуриста Джона Гримека.
85,9×47,0
Месторасположение неизвестно
85,9×47,0
Месторасположение неизвестно
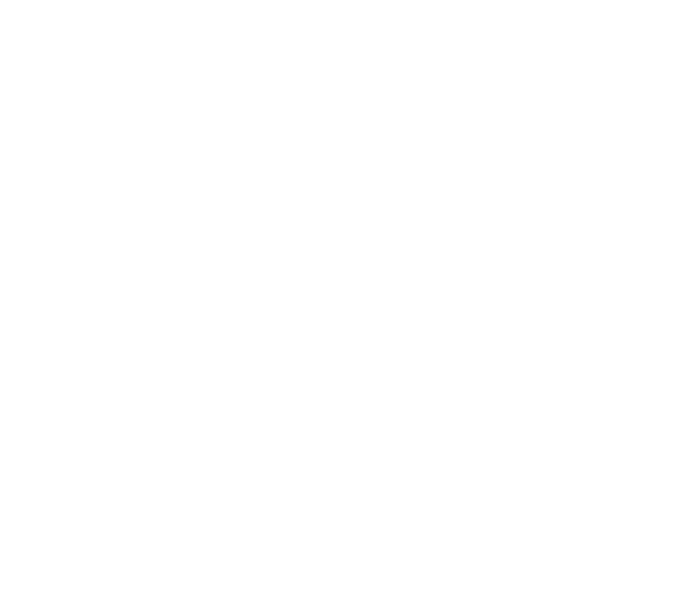
Фотоколлаж с использованием изображения здания МГУ и рекламы колготок
Собственность семьи художника
Собственность семьи художника
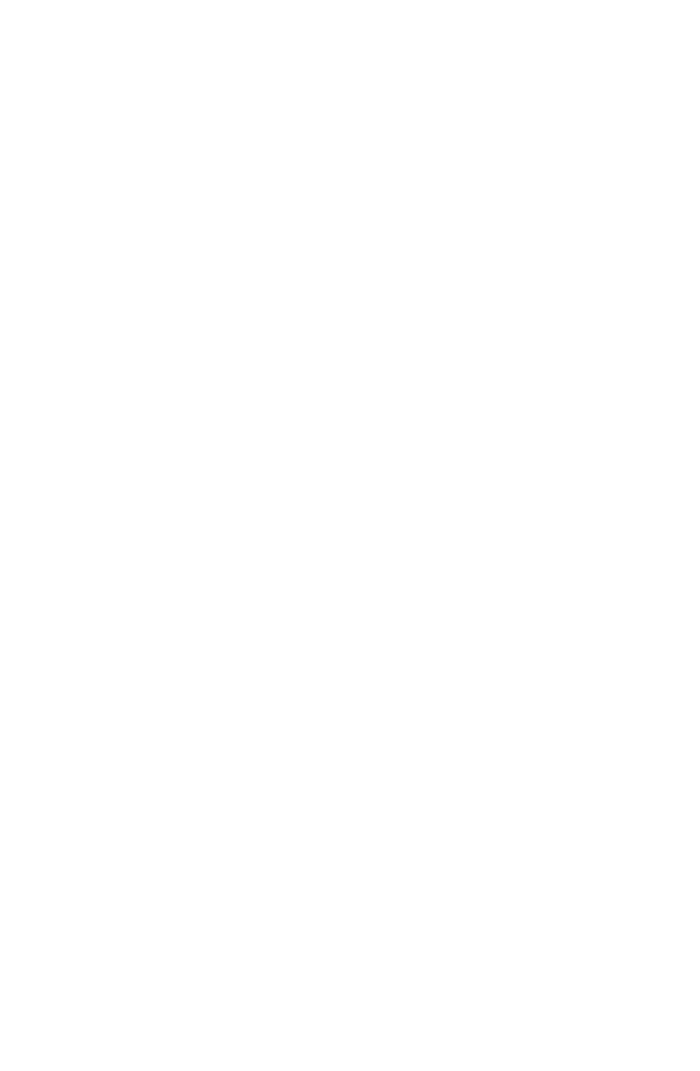
Фотокопия коллажа с использованием постера с Натальей Варлей
Месторасположение неизвестно
Месторасположение неизвестно
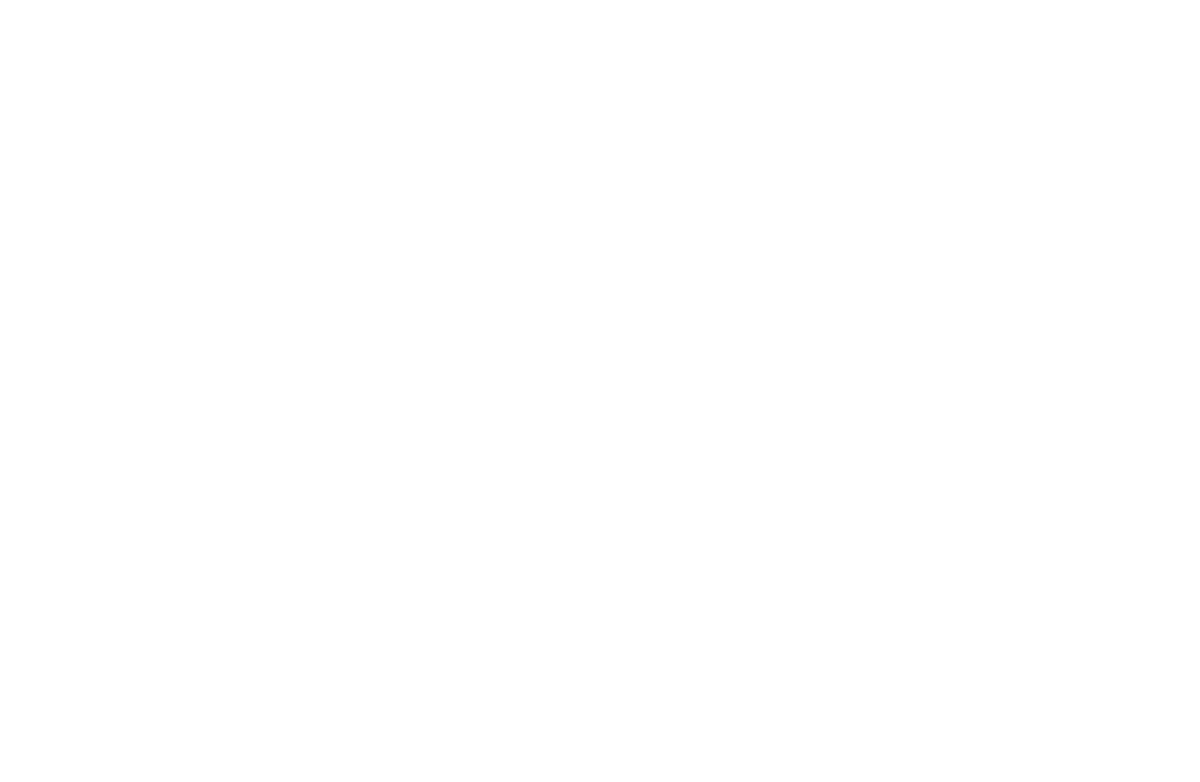
Утро в сосновом лесу. 1979
На создание коллажей Гущина вдохновила история картины «Утро в сосновом лесу», когда прекрасный пейзаж Ивана Шишкина был дополнен анималистической сценой, написанной Константином Савицким. Решение было настолько удачным, что это произведение в массовом сознании стало самым известным творением Шишкина, медведи «прекрасно укоренились… Его только так и узнают». Мишки оказались «важным элементом этой картины, для всех буквально… Вот это важно, что жизнь оказалась важнее того, кто предварительно создал эту картину. Без них [медведей] все бы изменилось, и зритель оказался бы в легком недоумении. Потому что роскошно созданный пейзаж, очень живой пространственно. Так почему же там нет ничего живого? Как бы. И вот нашелся анималист, который пошел навстречу и превратил это непростое пространство леса в еще более сложное пространство, поместив туда этих зверей. Я был этим обстоятельством вполне вдохновлен, и остальные коллажи, так или иначе… не все, но большая часть из них, они в этом контексте и фигурируют, что есть какой-то сюжет, и к нему комментарий такого рода возникает; отстраненный и независимый, но, оказывается, близкий и нужный».
сВОЕ — ЧУЖОЕ
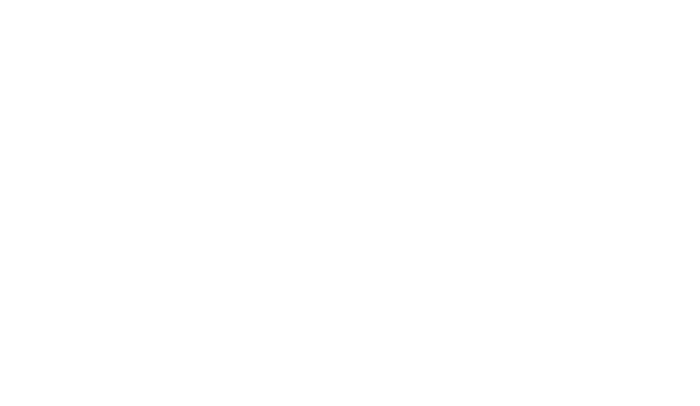
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Страдная пора. Косцы» (1887, Григорий Мясоедов) и «Охота на львов» (1621, Питер Пауль Рубенс)
70,0×120,0
Собственность семьи автора
70,0×120,0
Собственность семьи автора
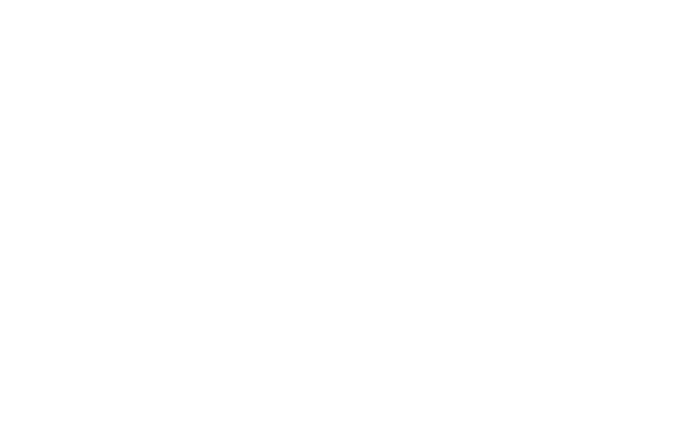
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Волна» (1889, Иван Айвазовский)
19,0×32,5
Собственность семьи автора
19,0×32,5
Собственность семьи автора
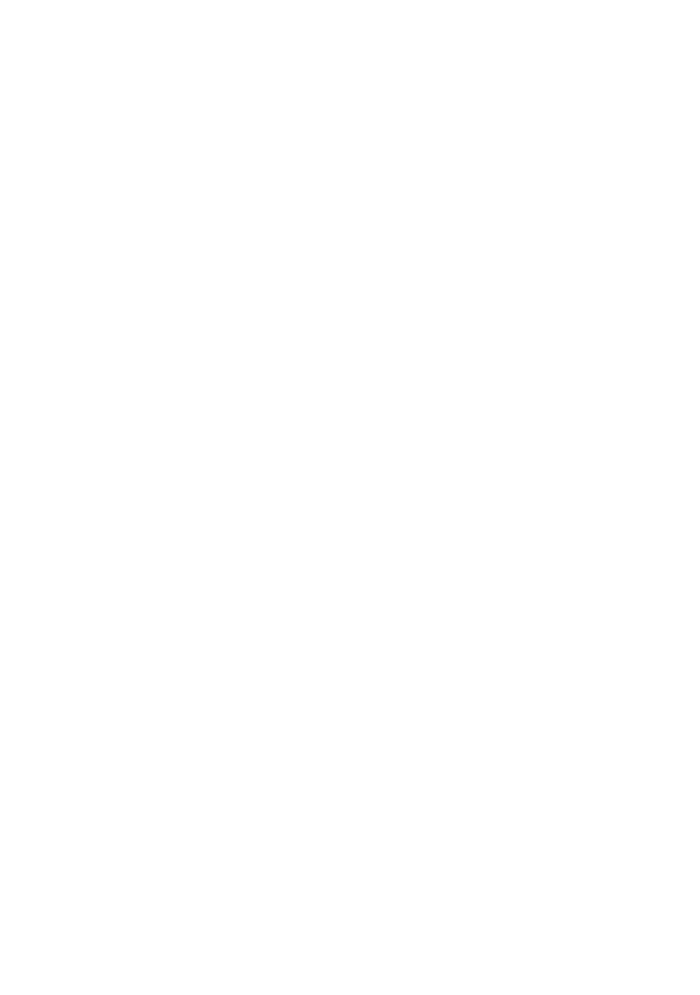
Фотокопия коллажа с использованием репродукции картины «Радуга» (1873, Иван Айвазовский)
Месторасположение неизвестно
Месторасположение неизвестно
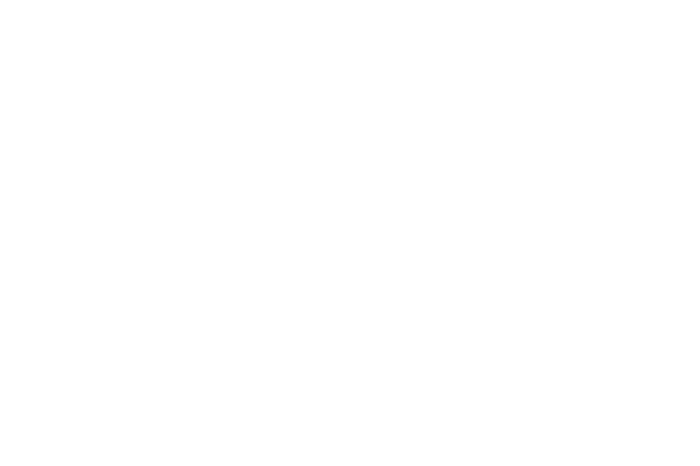
Фотоколлаж с использованием репродукций картины «Девятый вал» (1850, Иван Айвазовский) и «Никитка — первый русский летун» (1940, Александр Дейнека)
70,0×120,0
Собственность семьи автора
70,0×120,0
Собственность семьи автора
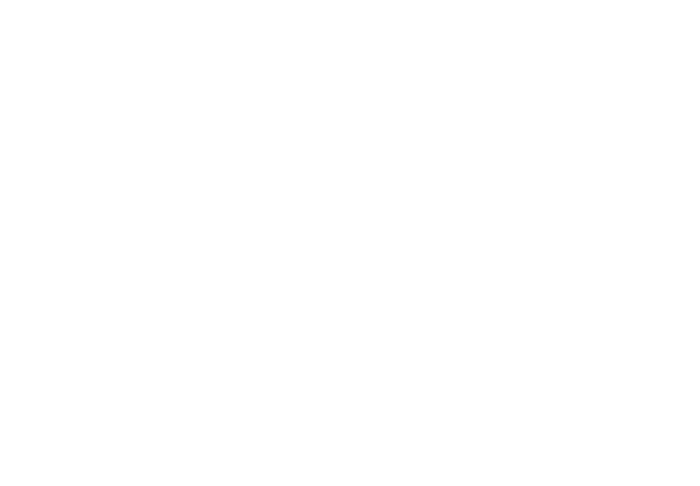
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Последний день Помпеи» (1833, Карл Брюллов)
56,5×39,0
Собственность семьи автора
56,5×39,0
Собственность семьи автора
сОЦИАЛЬНЫЙ МИФ
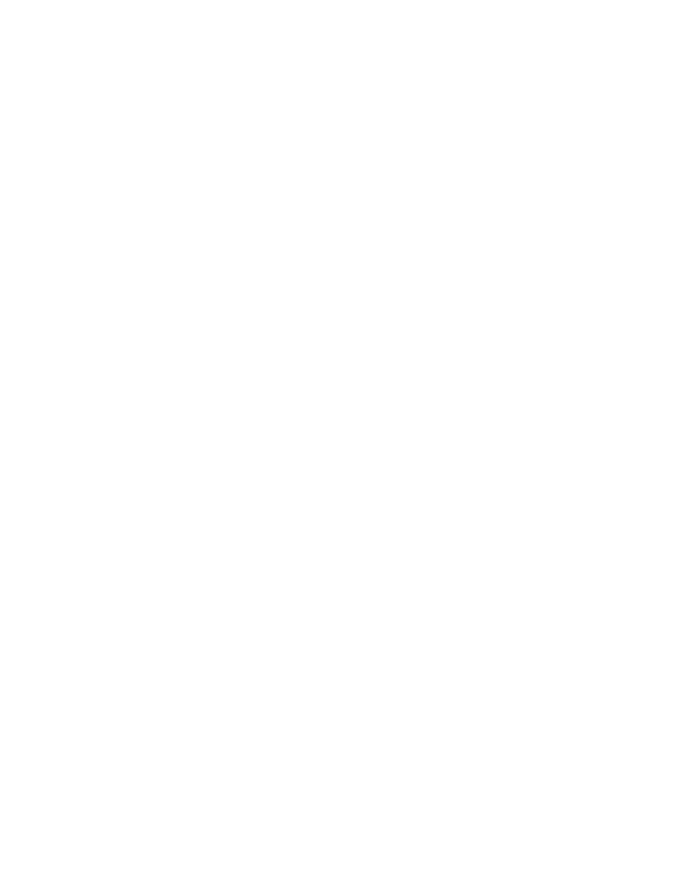
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Мона Лиза» (1503−1505, Леонардо да Винчи) и плаката с изображением Михаила Горбачева
54,6×42,8
Художественный музей Зиммерли
54,6×42,8
Художественный музей Зиммерли
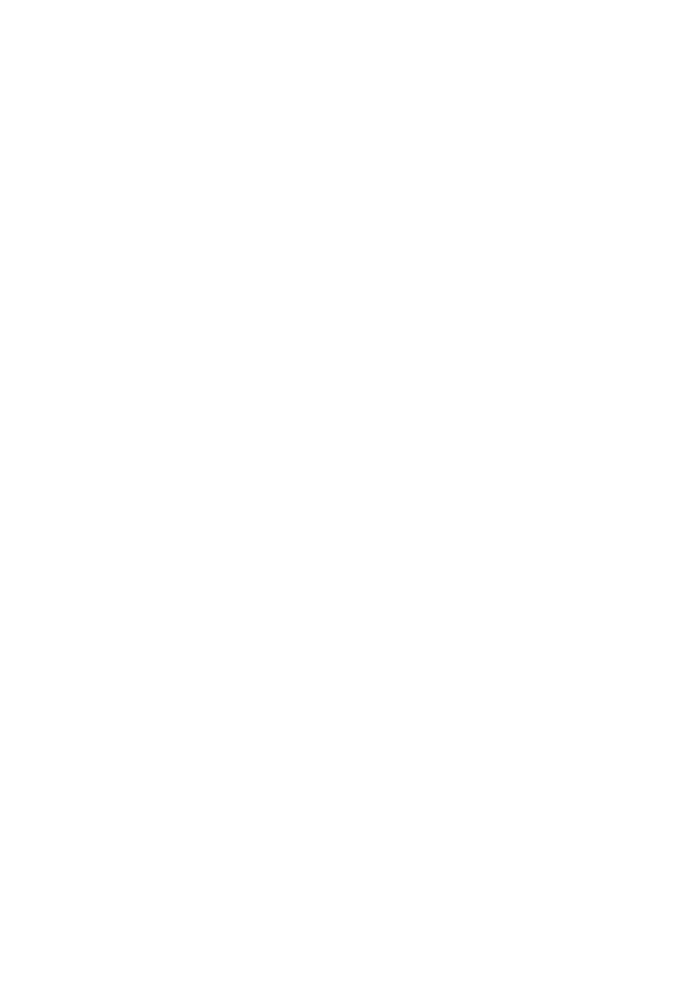
Цифровой коллаж с использованием фотоколлажа «Ренессансный портрет»
Собственность семьи автора
Собственность семьи автора
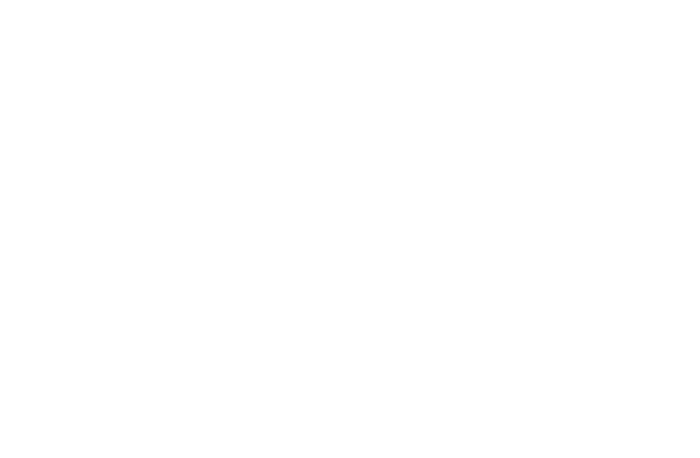
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Штиль. Вид Капри»
(1892, Иван Айвазовский) и изображения арки Главного штаба в Ленинграде
58,0×33,0
Собственность семьи автора
(1892, Иван Айвазовский) и изображения арки Главного штаба в Ленинграде
58,0×33,0
Собственность семьи автора
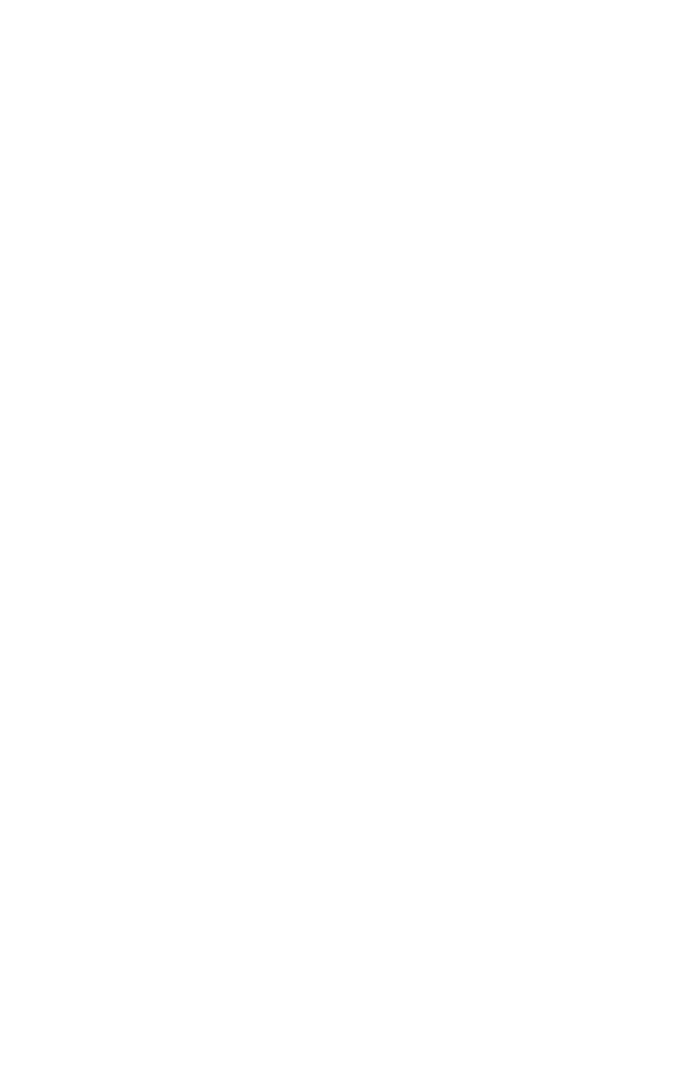
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Штиль. Вид Капри» (1892, Иван Айвазовский)
35,0×23,0
Собственность семьи автора
35,0×23,0
Собственность семьи автора
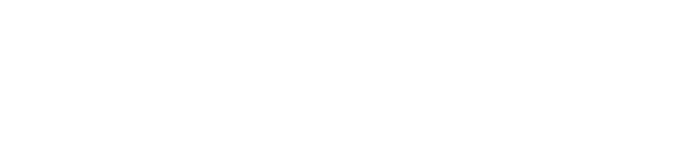
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Утро на Куликовом поле» (1947, Александр Бубнов), «Бой скифов со славянами» (1881, Виктор Васнецов), «Баян» (1910, Виктор Васнецов)
85,5×78,8
Собственность семьи автора
85,5×78,8
Собственность семьи автора
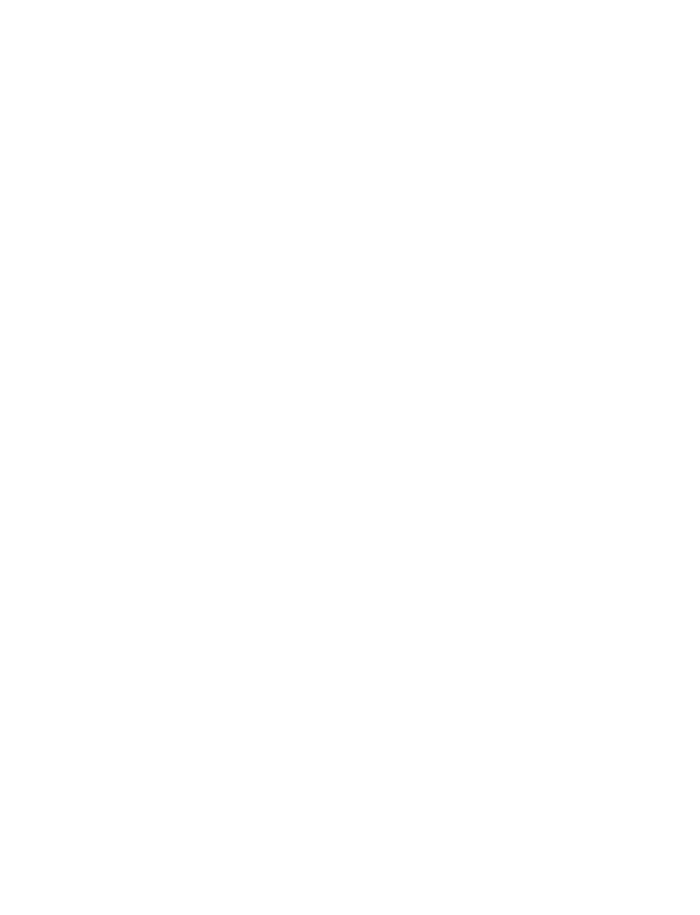
Фотокопия коллажа с использованием репродукции картины «На колхозном огороде» (1951, Юрий Кугач)
Месторасположение неизвестно
Месторасположение неизвестно
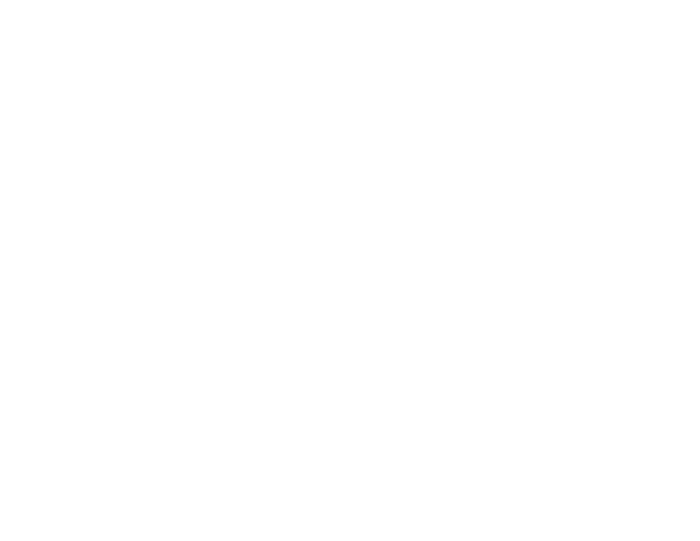
Фотокопия коллажа с использованием репродукций картин «Великое начало» (1975, Михаил Богатырев) и «Весенняя лихорадка, Беркширские холмы, Массачусетс» (1908, Рокуэлл Кент)
Месторасположение неизвестно
Месторасположение неизвестно
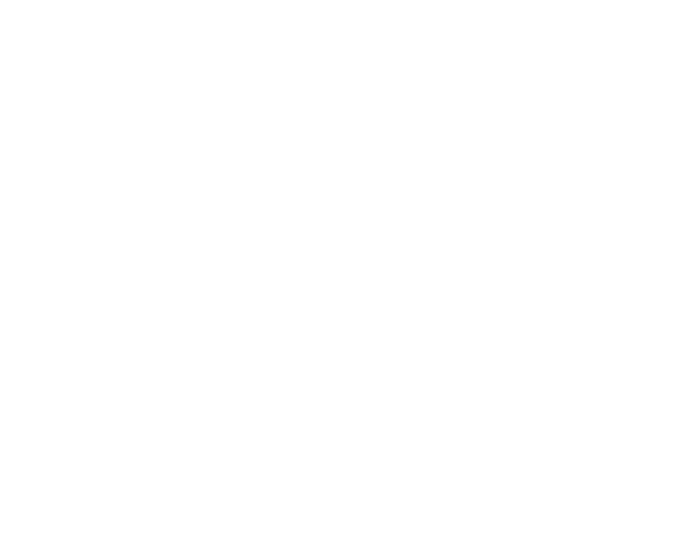
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Свобода, ведущая народ» (1830, Эжен Делакруа) и изображения скульптурной группы «Рабочий и колхозница» (1937, Вера Мухина)
33,0×41,0
Собственность семьи автора
33,0×41,0
Собственность семьи автора
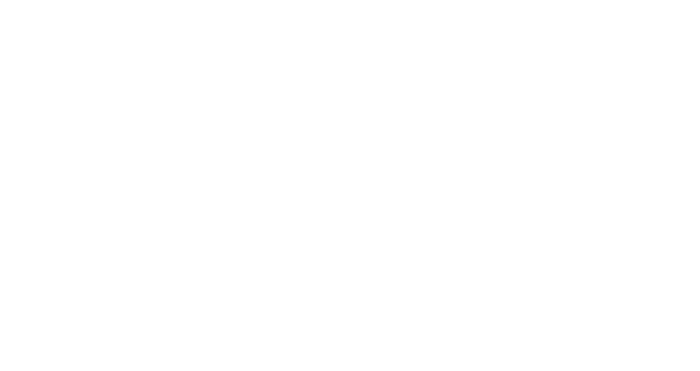
Фотоколлаж с использованием страницы календаря и изображения скульптурной группы «Рабочий и колхозница» (1937, Вера Мухина)
64,2×34,0
Собственность семьи автора
64,2×34,0
Собственность семьи автора
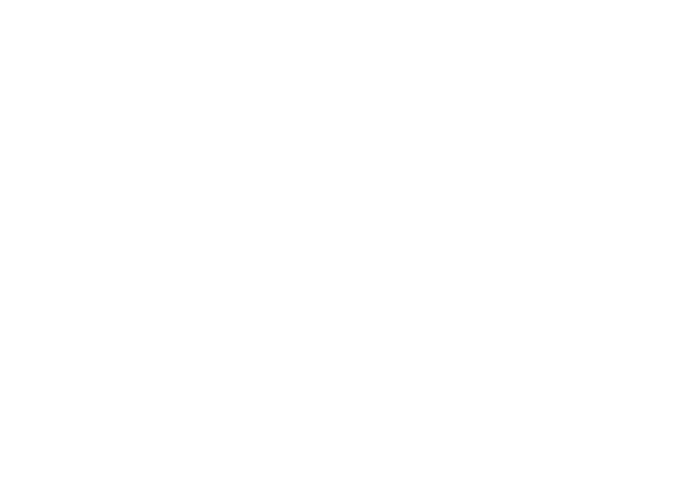
Фотокопия коллажа с использованием репродукции картины «В голубом просторе» (1918, Аркадий Рылов) из набора «Шедевры Государственной Третьяковской галереи» и изображения физкультурников из журнала «Огонёк»
Месторасположение неизвестно
Месторасположение неизвестно
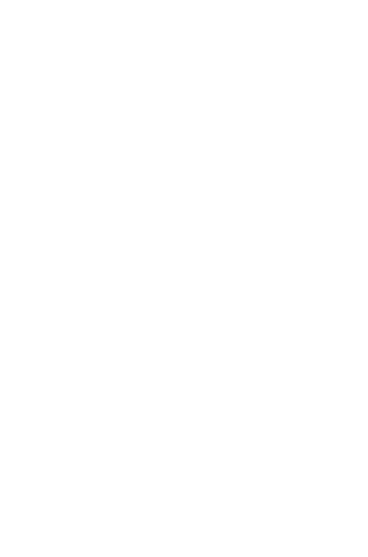
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Радуга» (1892, Николай Дубовской).
34,3×21,7
Художественный музей Зиммерли
34,3×21,7
Художественный музей Зиммерли
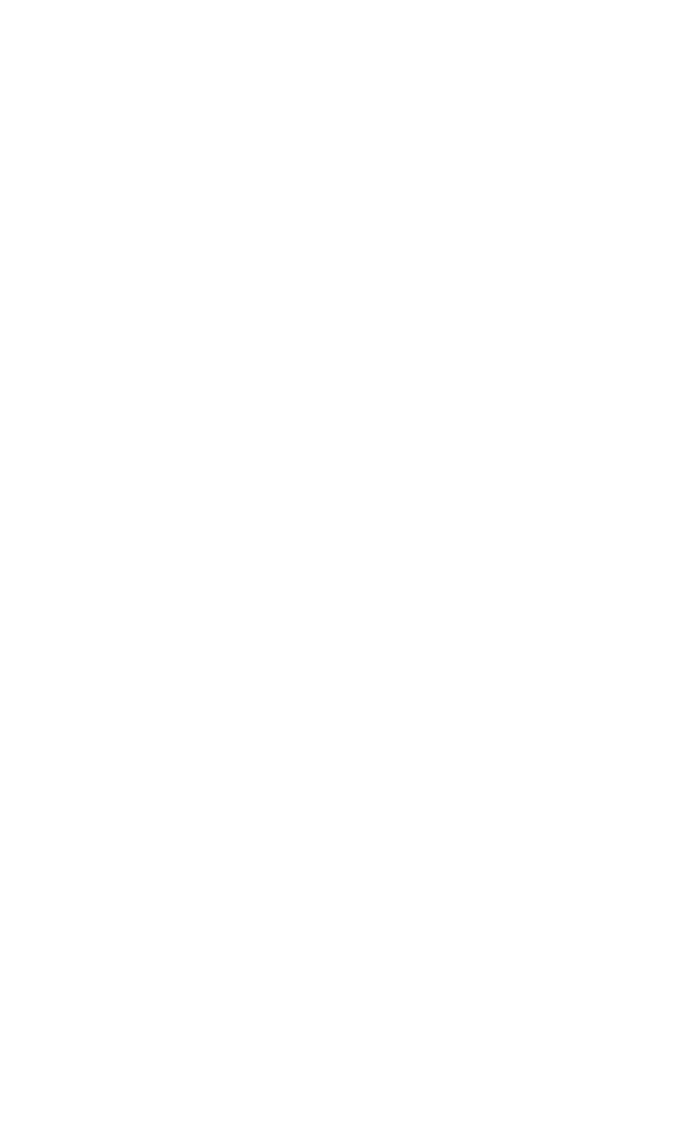
Фотоколлаж.
22,5×33,5
Собственность семьи автора
22,5×33,5
Собственность семьи автора
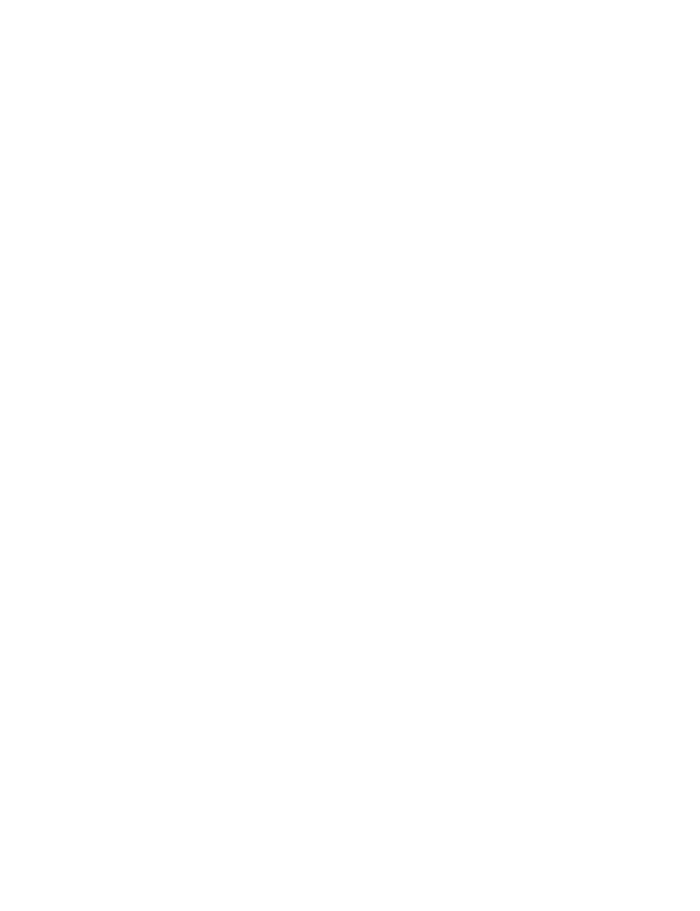
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Ночь на Днепре» (1880, Архип Куинджи) и изображения летнего театра.
31,0×24,0
Собственность семьи автора
31,0×24,0
Собственность семьи автора
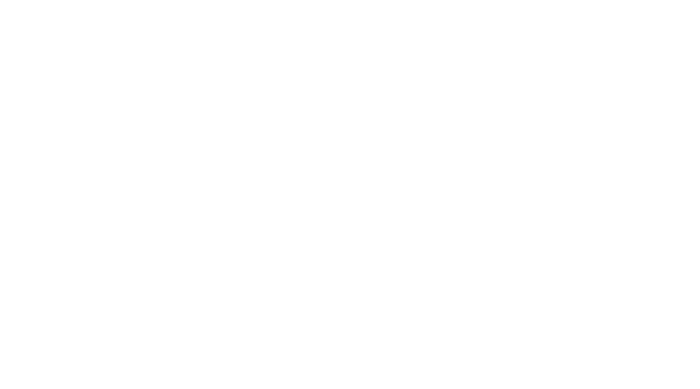
Фотоколлаж с использованием изображений Нью-Йорка и перевалов Матча и Голыш.
39,6×62,3
Художественный музей Зиммерли
39,6×62,3
Художественный музей Зиммерли
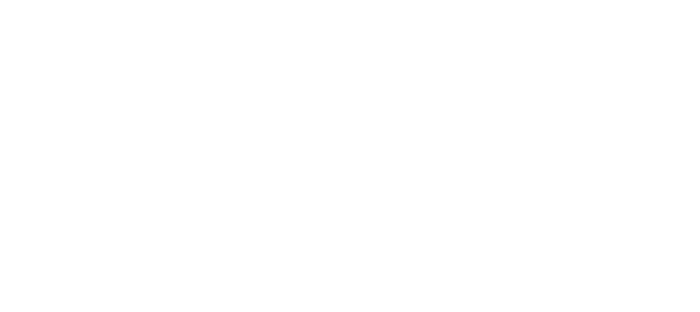
Фотоколлаж с использованием изображения скульптуры Аполлона, управляющего квадригой, на фронтонe Большого театра.
40,0×21,0
Собственность семьи автора
40,0×21,0
Собственность семьи автора
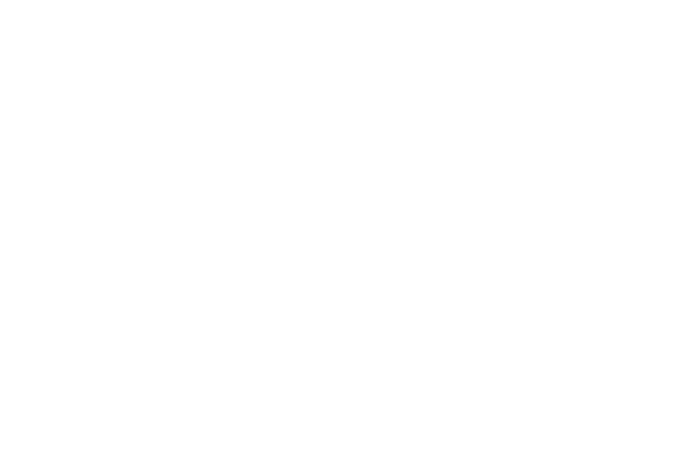
Фотоколлаж с использованием изображений заката и Большого театра СССР из журнала «Огонёк».
33,4×51,1
Художественный музей Зиммерли
33,4×51,1
Художественный музей Зиммерли
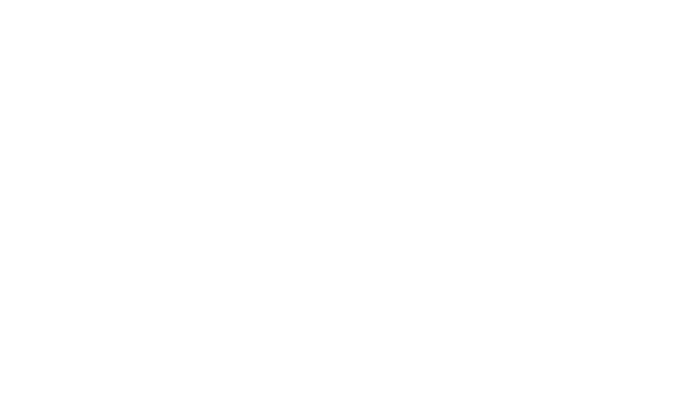
Фотоколлаж с использованием изображений Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади и Шалаша В. И. Ленина в Разливе.
20,2×34,2
Художественный музей Зиммерли
20,2×34,2
Художественный музей Зиммерли
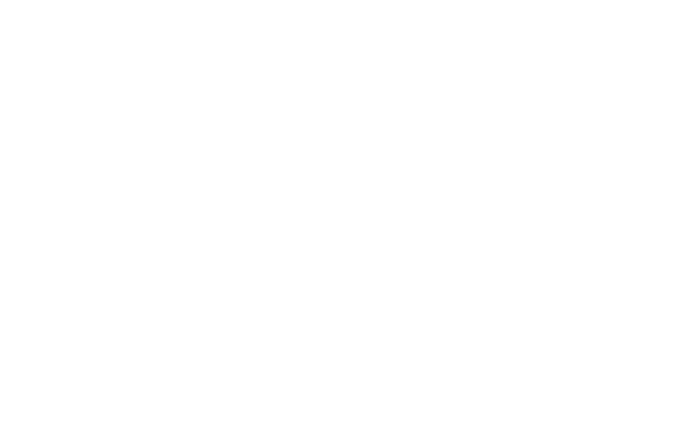
Фотоколлаж с использованием репродукций картин «Владимирка» (1892, Исаак Левитан), «И. В. Сталин» (1944–1945, Дмитрий Налбандян) и изображения памятника В. И. Ленину в Ульяновске.
27,9×43,8
Художественный музей Зиммерли
27,9×43,8
Художественный музей Зиммерли
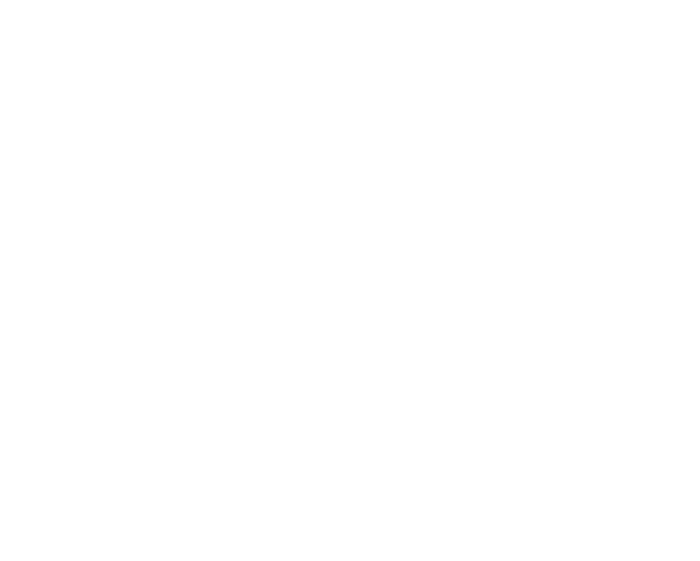
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «И. В. Сталин на крейсере „Молотов“» (1950, Виктор Пузырьков) и обложки журнала «Огонёк» за 1958 г.
27,9×43,8
Художественный музей Зиммерли
27,9×43,8
Художественный музей Зиммерли
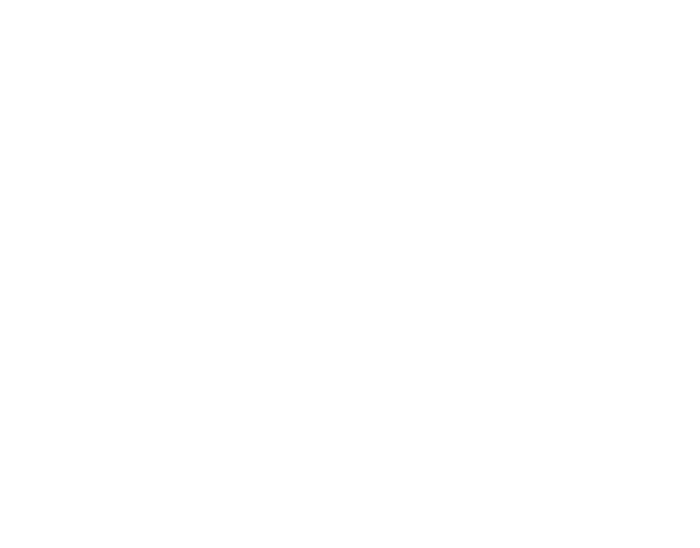
Фотоколлаж с использованием репродукции картины «Утро нашей Родины» (1948, Фёдор Шурпин).
120,0×162,0
Собственность семьи автора
120,0×162,0
Собственность семьи автора
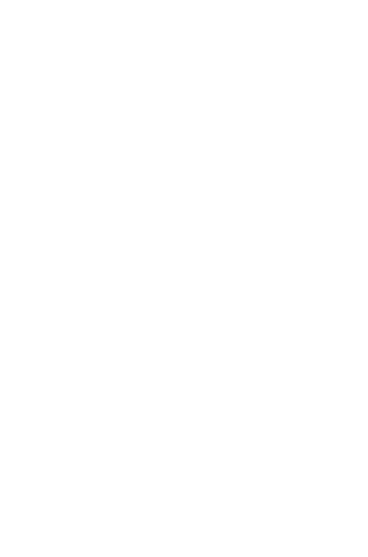
Hello, радуга! 1987
В коллаже «Hello, радуга!» изображена восторженная толпа американцев на фоне пейзажа с картины Н. К. Дубовского «Радуга». По мысли автора, «радуга всегда служила… знаком нашего благополучия, который небеса отправляют людям. <…> Радуга отчасти как бы наше явление, наше, российское, и вот Господь посылает знак на радость и другим людям, западным. Это как бы западные люди… а там мы. Наше пространство». Радуга в данном случае означает возможность взаимного общения чуждых сообществ. По словам Гущина, важно, что «русская радуга как надежда, которую они [иностранцы] воспринимают, как открытие для себя … Это русское явление как бы… она приветствуется другими людьми, для которых это неожиданность». На эскизе к инсталляции с этой работой над коллажем появляется дуга с надписью «Перестройка».
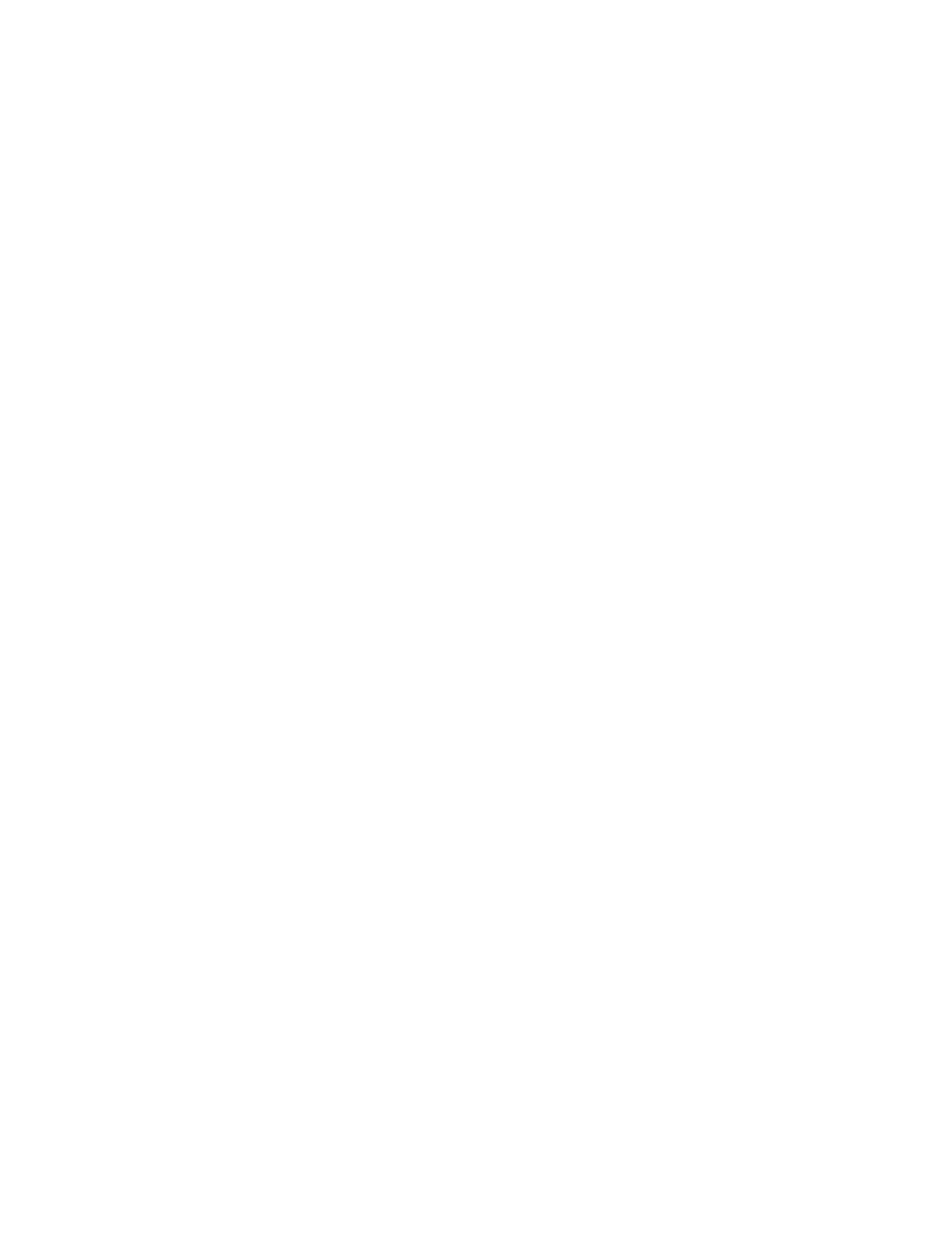
Ночь на Днепре. 1980-е
Свет может иметь разную интенсивность, в таком случае он используется для сопоставления разных миров (без принижения значения одного из них). Свет может быть и природным, и искусственным, как в коллаже «Ночь на Днепре» с известной картиной А. И. Куинджи, где на фоне таинственного лунного света ярким пятном благодаря театральным софитам выделяется сцена: «Площадка освещенная, а там рядом для контраста Днепр... Значит, и люди вот этим светом освещенные». Зрители, сидящие в амфитеатре под открытым небом, освещены третьим источником — вечерним светом уходящего дня. Все они смотрят на ярко подсвеченную сцену, и никто из них не обращает внимания на великолепный пейзаж, запечатленный Куинджи. Геннадий Гущин подчеркивает приоритет любого сценического действа перед естественной красотой природы.
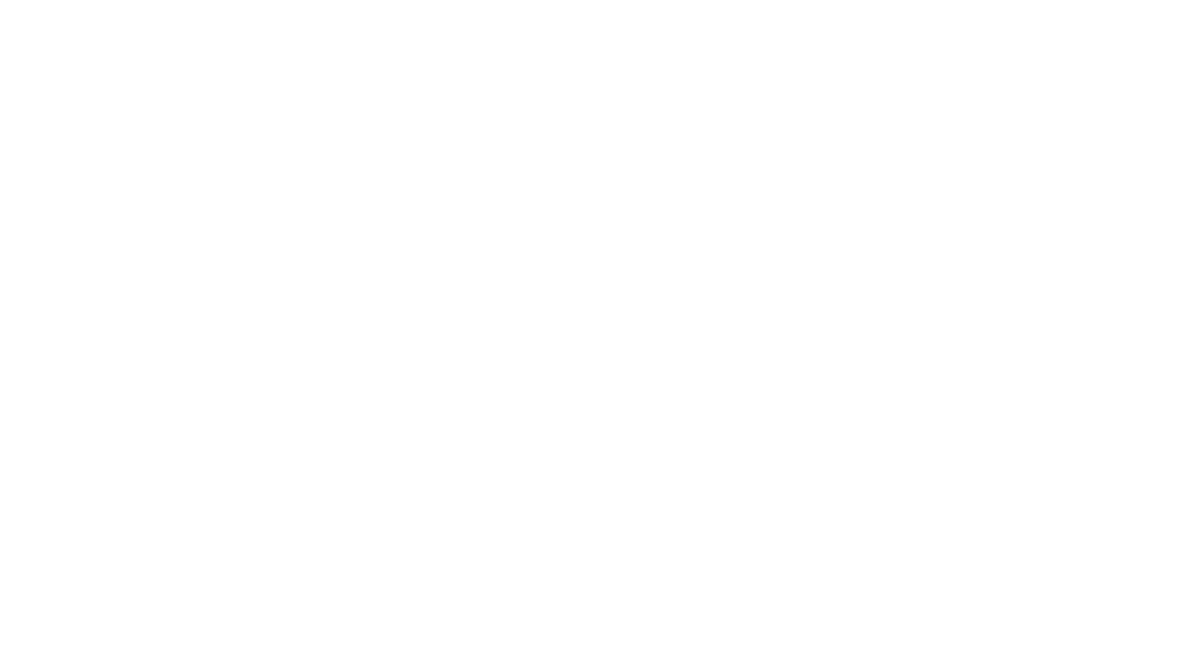
На пике Победы. 1978
В коллаже на «На пике Победы» группа альпинистов устанавливает красный флаг на высокой горе, под которой под слоем воды скрыт Нью- Йорк. Коллаж был создан под впечатлением от статьи о новых видах оружия, вызывающих природные катастрофы.
Серия «Социальный миф» связана с текущей реальностью. Это размышление над поворотными моментами истории, свидетелем которых стал художник. Гущин занял привилегированную позицию творца, которая дает ему возможность выбора тех моментов настоящего, которые для него важны. Он создает собственную социальную и политическую мифологию.
Серия «Социальный миф» связана с текущей реальностью. Это размышление над поворотными моментами истории, свидетелем которых стал художник. Гущин занял привилегированную позицию творца, которая дает ему возможность выбора тех моментов настоящего, которые для него важны. Он создает собственную социальную и политическую мифологию.
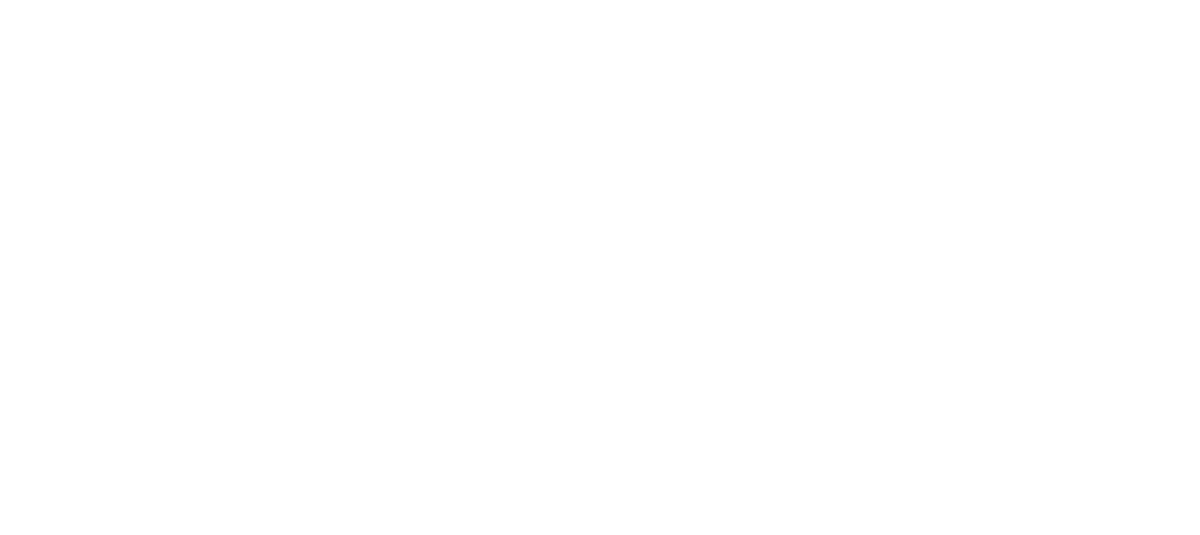
Приземление. 1998
В работе «Приземление» на первый план помещена фотография, сделанная со стороны фронтона Большого театра. На ней высится темная скульптурная группа: древнегреческий бог Аполлон, управляющий квадригой лошадей. Геннадий Гущин пояснил: «Здесь дается намек на то, что их состояние — приземления, оно оказывается важным, и в нем есть какое-то несовпадение с той реальностью, которая, предположительно, должна была бы быть по-настоящему, если бы они ока- зывались в свету и двигались бы навстречу людям». Однако людей в коллаже нет, вместо них перед всадником расстилаются скошенные поля, далекие перелески и грозовые тучи — бог спустился на землю, чтобы одарить мир своим присутствием. «Это просто приземление Высокого, того, что связано с Высоким, [оно] оказалось вынуждено приниженным». В этом есть трагизм. По сути, элитарное в нашей стране находится в диком поле. Культурная граница очень зыбка, музеи, театры — все шедевры скоплены в весьма малых локациях и недоступны огромным просторам. Малейшее социальное потрясение губительно сказывается на этих шедеврах человеческой мысли. Застойные явления для них не менее губительны.
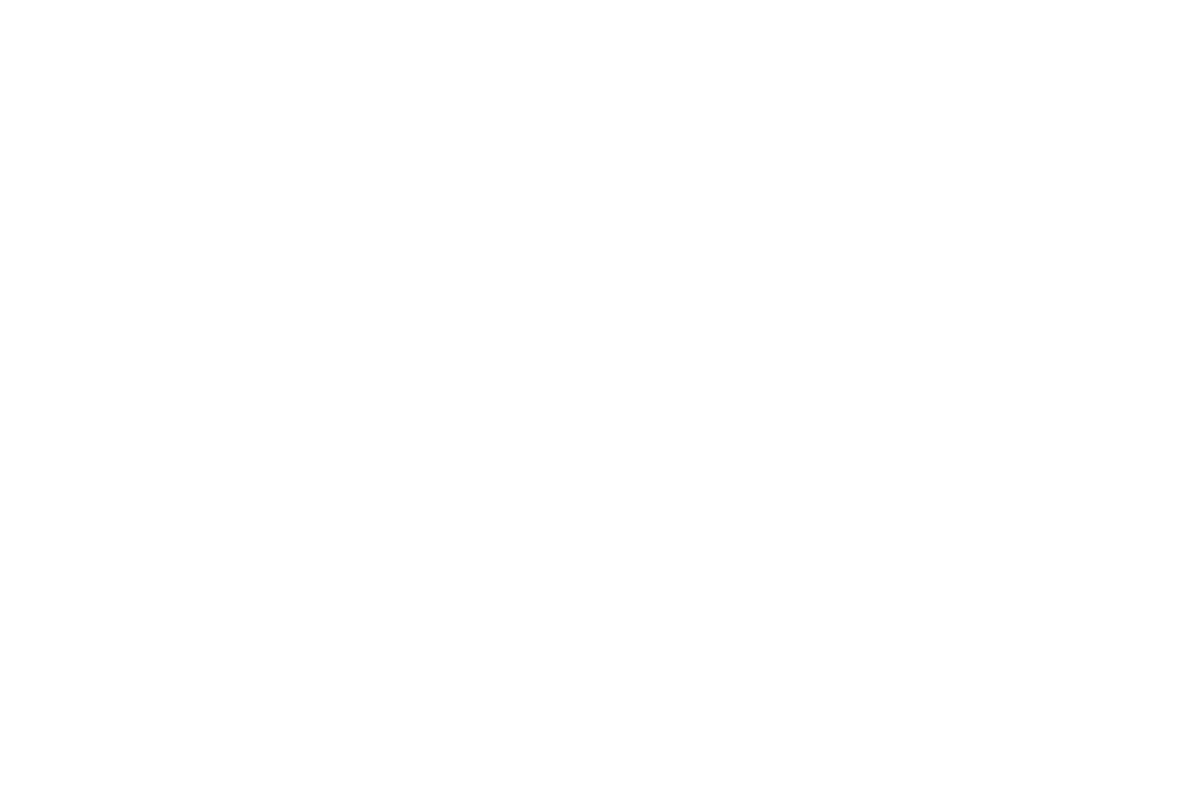
Закат в Большом театре. 1979
Конец 1980-х в Большом театре был отмечен упадком: главный балетмейстер Юрий Григорович при- держивался старой советской балетной традиции с ее пристрастием к бравурной музыке, атлетическому танцу и к популярным постановкам вроде «Спартака», строго соответствующим по тематике советской моральной доктрине. Из-за этого произошел раскол труппы, часть которой хотела изменений в репертуаре. В театре имени Кирова (сейчас Мариинский театр) стали внедрять новый, ранее запрещенный западный репертуар, новые идеи позволили балетной труппе театра стать самой успешной в России. Аполлон на распутье, его театр переживает закат. «Закат в Большом театре» — любимый коллаж Гущина: «Там так естественно сложился материал, он воспринимается как апокалипсис. Ты реагируешь на это болезненно. <…> Просто грустная картинка о трудном периоде Большого театра, <.> с одной стороны, это как кинематографический закат, как бывали у кинема- тографистов съемки такие, катастрофические… А тут, значит, вот, в Большом театре на сцене происходящие действия… и действия, собственно, и нету. Есть зрители, целый зал, которые смотрят на это событие. <…> Это было короткий период, достаточно… Ну, или не столь короткий, но печальный, поэтому и запоминался сильно». Смыслообразующая вставка — закат — оказалась идеальным цветовым дополнением основного фона в коллаже «Закат в Большом театре»: «такое природное явление, которое оказалось в этот момент присуще вот этому пространству. <…> Трудные времена были с Большим театром, и вот как бы этот свет, и двойной свет, потому что он от грозового облака. Облако имеет отношение к этому понятию, но главное — что они в цвете разные».
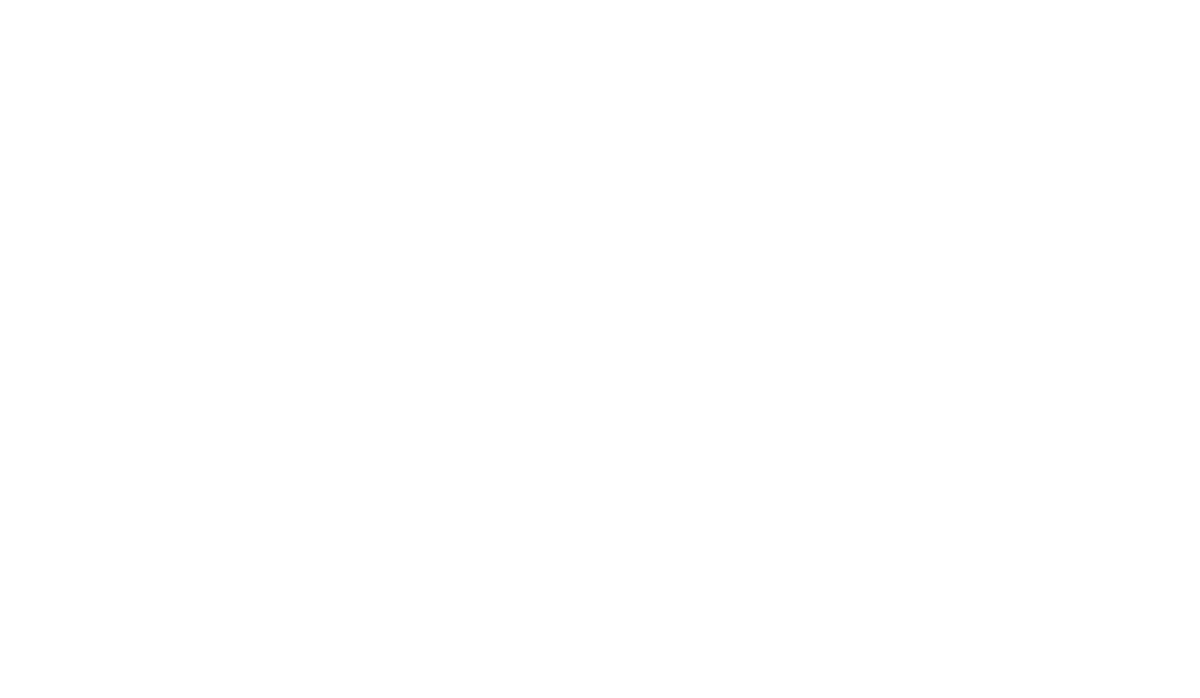
Проект реконструкции Красной площади. 1980
Два отдаленных друг от друга памятных места могут быть частью одного мифологического пространства, как это точно подмечено в коллаже «Проект реконструкции Красной площади». По мысли Гущина, шалаш Ленина в Разливе стоило бы перенести к мавзолею, получилось бы «продолжение мемориала», вышло бы единое культовое место. «А шалаш почему бы нельзя было добавить? Часть жизни Ленина, о которой писали в торжественных мемуарах». Это было бы логично, вышел бы музей Ленина под открытым небом. Мавзолей — это «сакральная такая вещь, которая связана с фараонами, с понятием „усопший“». Шалаш тоже надо было бы сделать мраморным, ведь мавзолей изначально тоже был сделан из дерева. Учитывая, что рядом с Красной площадью располагался и Музей В. И. Ленина, получился бы целый музейный комплекс, увековечивающий память об Ильиче.
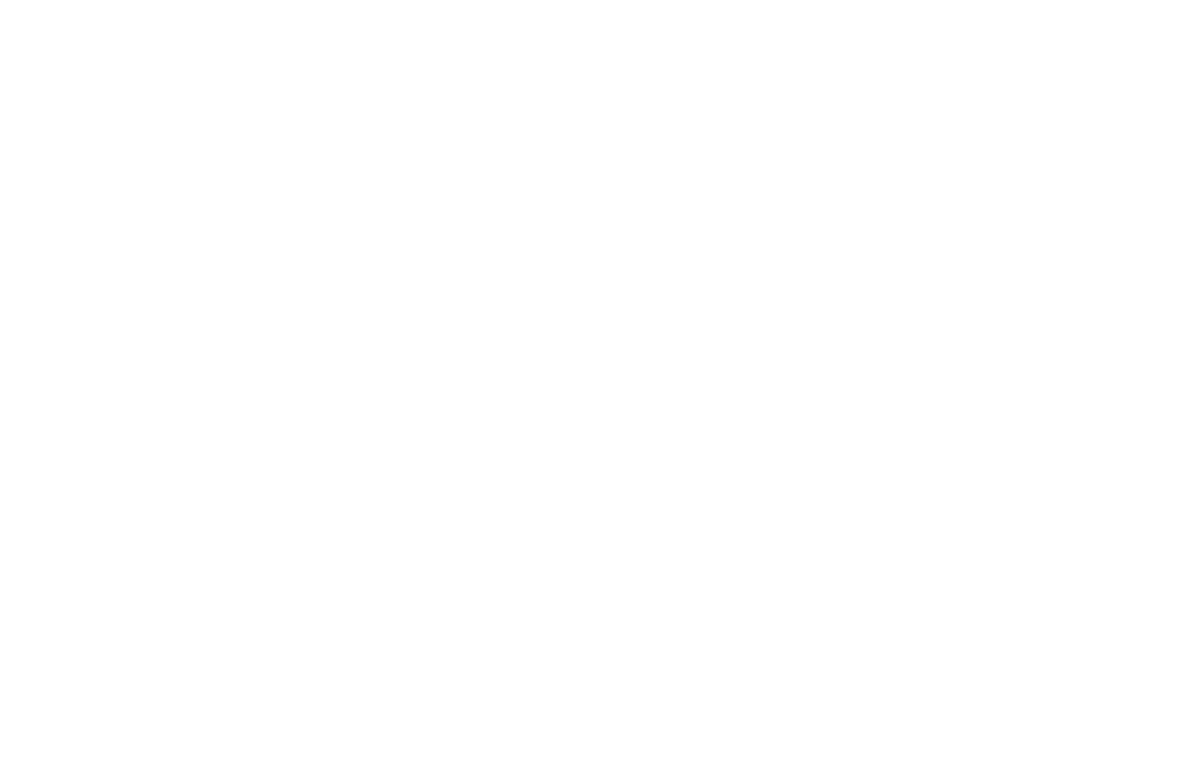
После охоты. 1970
Геннадий Гущин застал культ личности Сталина и его развенчание. Некоторое время казалось, что единственная непрерывная линия в нашей истории — это история репрессий. В коллаже «После охоты» изображен Владимирский тракт (в царское время обычное название — Владимирка) — дорога, «по которой долгие годы людей ссылали во всякие места». На перекрестке «в связи с этим появляется памятник Ленину, просто, как напоминание о Владимирке…<…> здесь игра словесная»: Владимир на Владимирке. А перед ними «Сталин стоит в такой простой позе… <…> после охоты, которую он осуществил, <…> и все это находится в пространстве Владимирки. <…> Он акт какой-то осуществил, утки убиты. Это не имеет значения, потому что он в свою радость поохотился. Поэтому он так спокойно стоит».
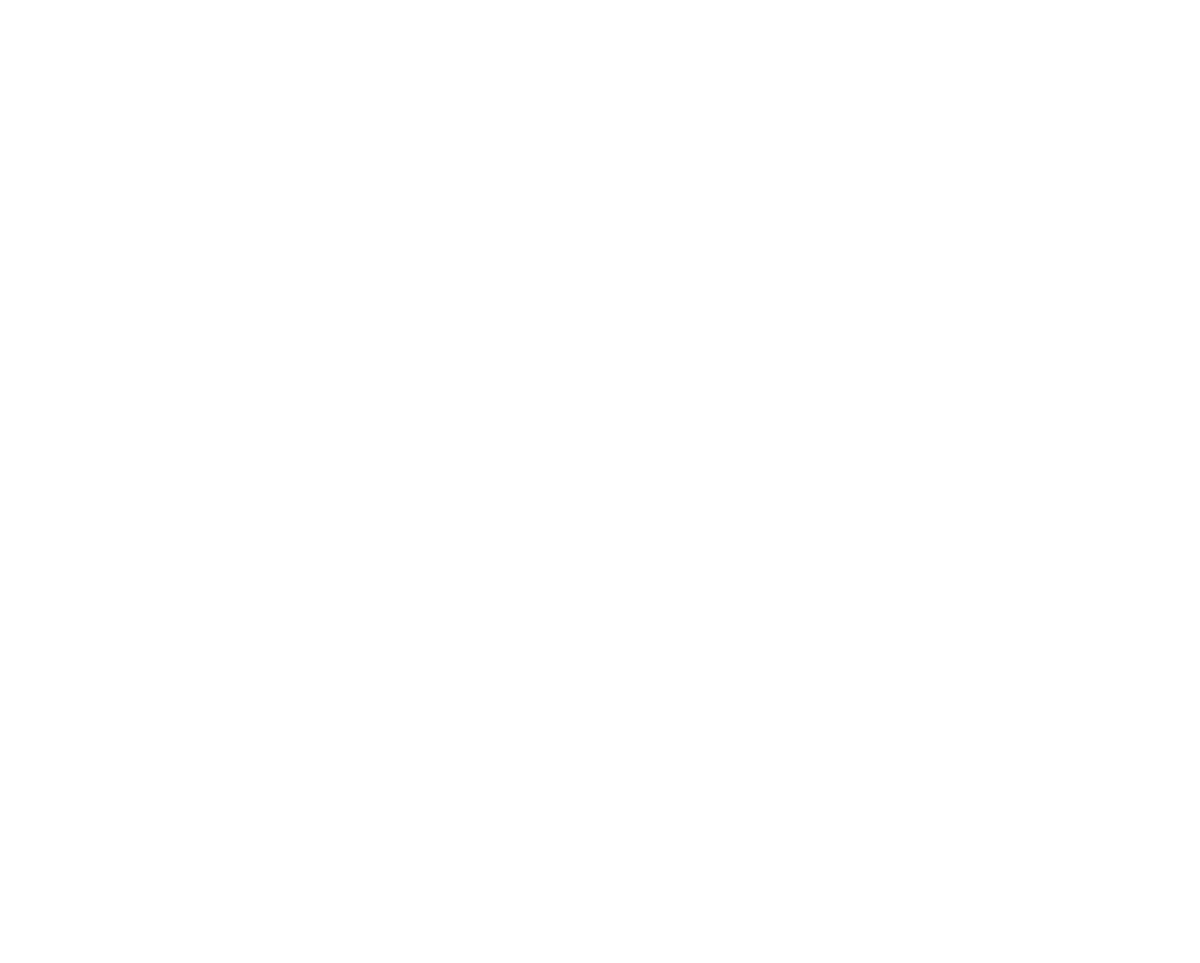
Сибириада. 1985
«Вождь как бы в небрежно накинутой шинели посещает места, в которых он находился», где он провел ссылку. «Одинокий человек. Ведь, в сущности, человек — одинокий. Вот, одинокий человек, который оказался в зоне состава, который он знает, для чего состав. Это не просто картинка, а состав, он составлен из того, что в нем». Это безрадостная картина потому, что «он это происходящее допускает. Весь состав так плотно упакованный, он знает о его содержании». В работе показан «частный момент. Он страшный, и неприятный, и темный такой… момент. В буквальном и переносном смысле. Но все равно, это — момент… частное явление по поводу этого человека».
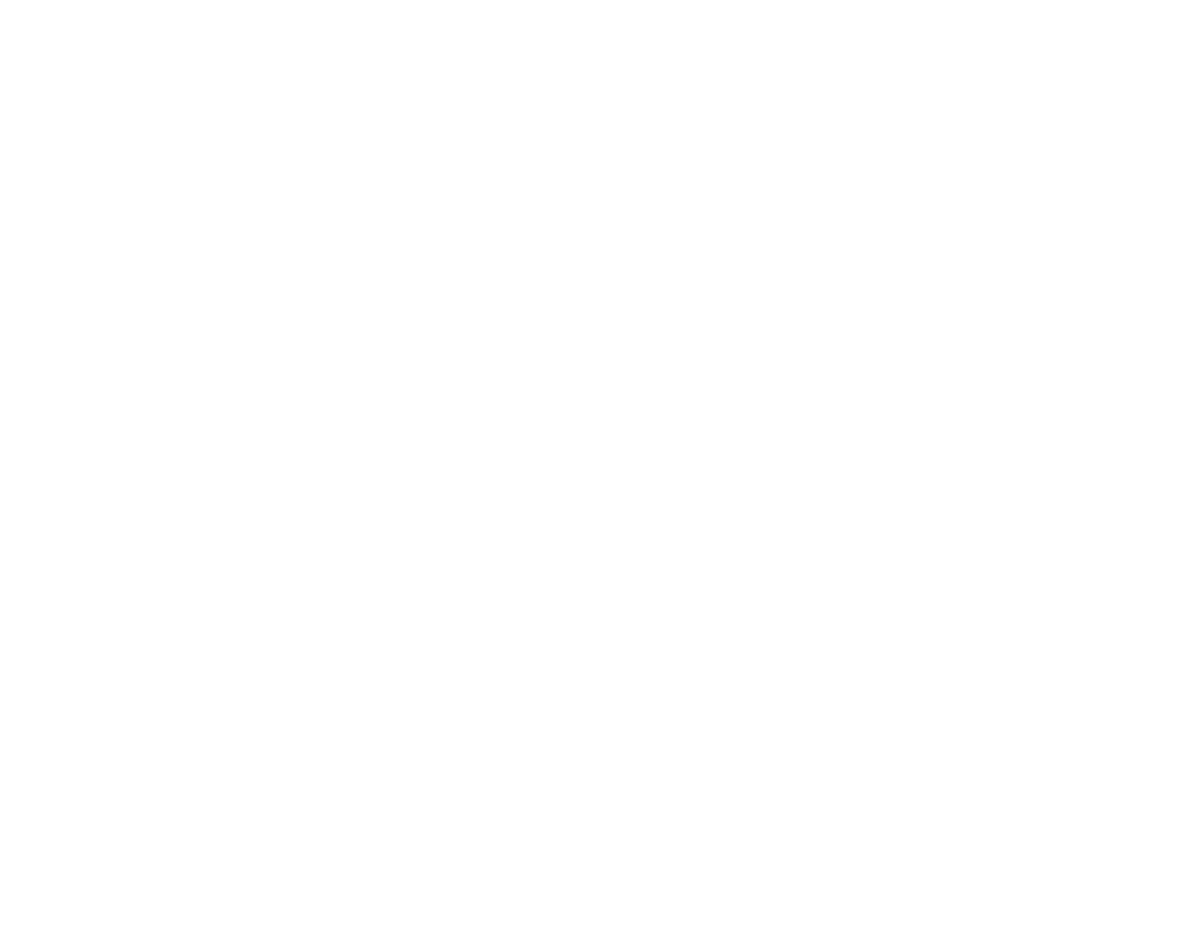
«Я другой такой страны не знаю». 1990‑е
В коллаже «Я другой такой страны не знаю» нет ничего снижающего статус вождя, отсутствуют юмор и элементы десакрализации. Есть только ощущение невыразимого ужаса. Кроваво-красное небо, отраженное багрянцем в поле, напоминает апокалиптичный пейзаж — так могла бы выглядеть пустыня ада. Глядя на эту работу, мы четко считываем смысл: пастырь охраняет своих овец от волков, чтобы самому их впоследствии съесть.
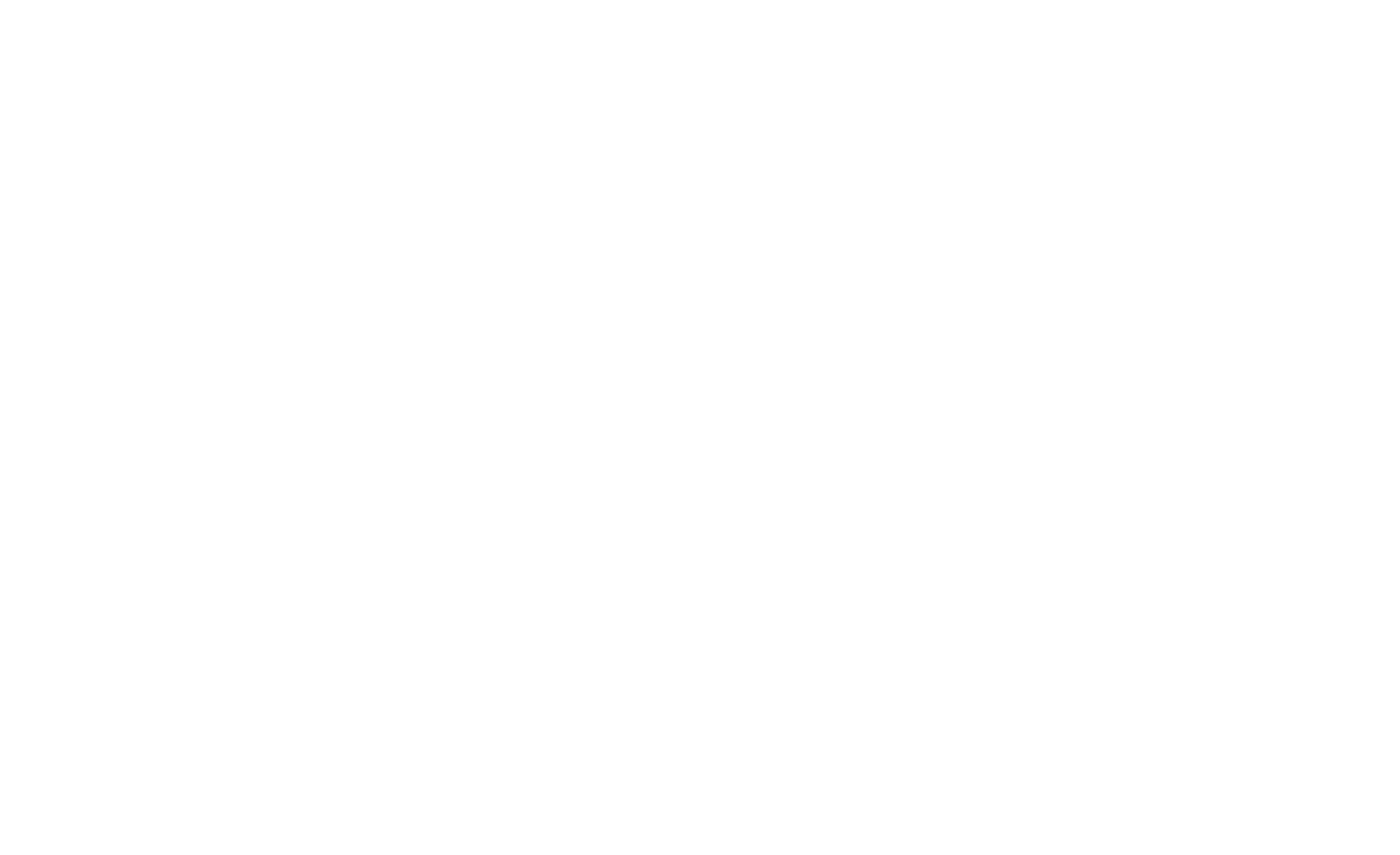
Вид Толедо со сталеварами. 1975
Геннадий Гущин задавался вопросом: может ли человек самостоятельно понять ценность произведения искусства или ему нужен интерпретатор, помощник-специалист? В коллаже «Толедо» сталевары находятся внутри картины, но не замечают на заднем плане пейзажа великого художника. Гущин говорил: «Эль Греко — выдающийся художник… А ситуация сложилась так, что непосредственно на него внимания» нет. Их внимание приковано к мольберту с картиной на переднем плане. Рабочие «смотрят именно на картину, которая к этому пространству не относится. Чья-то любительская картина. <…> Весь пейзаж — значительный, выдающийся мастер Эль Греко, картина “Толедо”. Она там остается на заднем плане и теряет … остроту… Толедо — это такой город с религиозным знаком своим. И им бы туда, в этот город, обратиться, а они [смотрят на] какую-то незначительную [картину] на мольберте, наверное, самодельную… потому, что она как бы скрыта от зрителя и выдает такую простоту». В коллаже препарируется проблема восприятия: если прекрасное не оформлено как произведение искусства, не окантовано в раму, не помещено на мольберт — оно не может быть замечено и не фиксирует на себе внимание зрителя.
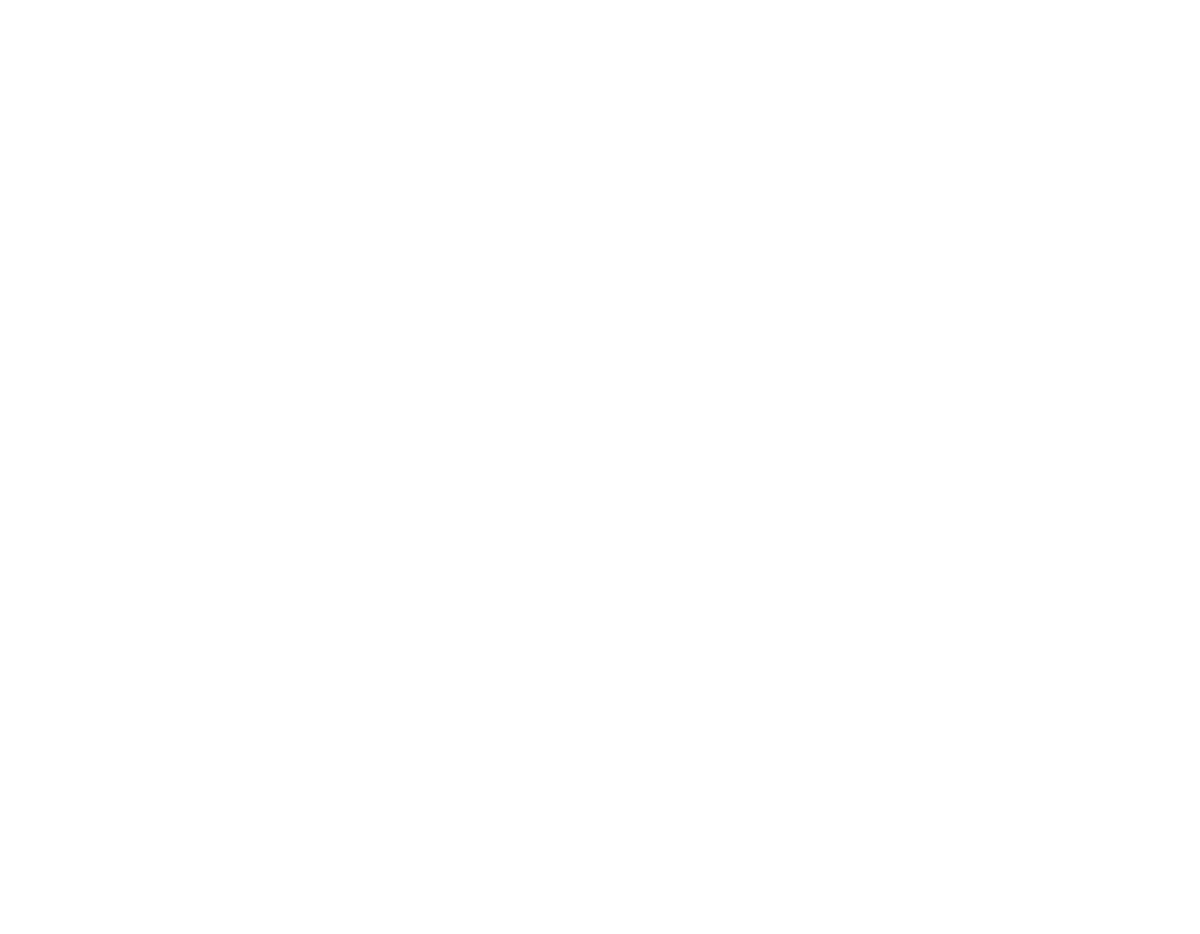
Ночная смена. 1979
Гущин верит в то, что произведение искусства имеет абсолютную эстетическую ценность, доступную для восприятия любого человека. Однажды ему попалась на глаза статья о том, что картины можно привозить на производство, чтобы знакомить с искусством максимально широкие слои населения. Художник комментировал: «Началась ночная смена у группы сталеваров, к которым неожиданно привезли картину Рембрандта… Нету времени и возможности никакой увидеть ее в подлиннике. А ее, значит, привезли, и сталевары, естественно, потрясенно реагируют на это дело. Оставаясь близки зрителю, лицом каким или взглядом, в основном они ощущают присутствие Данаи. Обнаженная женщина, в которой эротического, собственно, ничего нет… А здесь, значит, люди счастливы видеть это событие и как бы реагируют на него живо и непосредственно, без всякого ёрничания и каких-то мужских знаков, которые можно было бы ожидать. Оказывается — нет, очень чисто и интересно». Гущин считает, что люди способны к незамутненному эстетическому восприятию, что для наслаждения искусством не нужен груз знаний о нем. «Они чувствуют достоинство картины, и важность ее», - писал он.
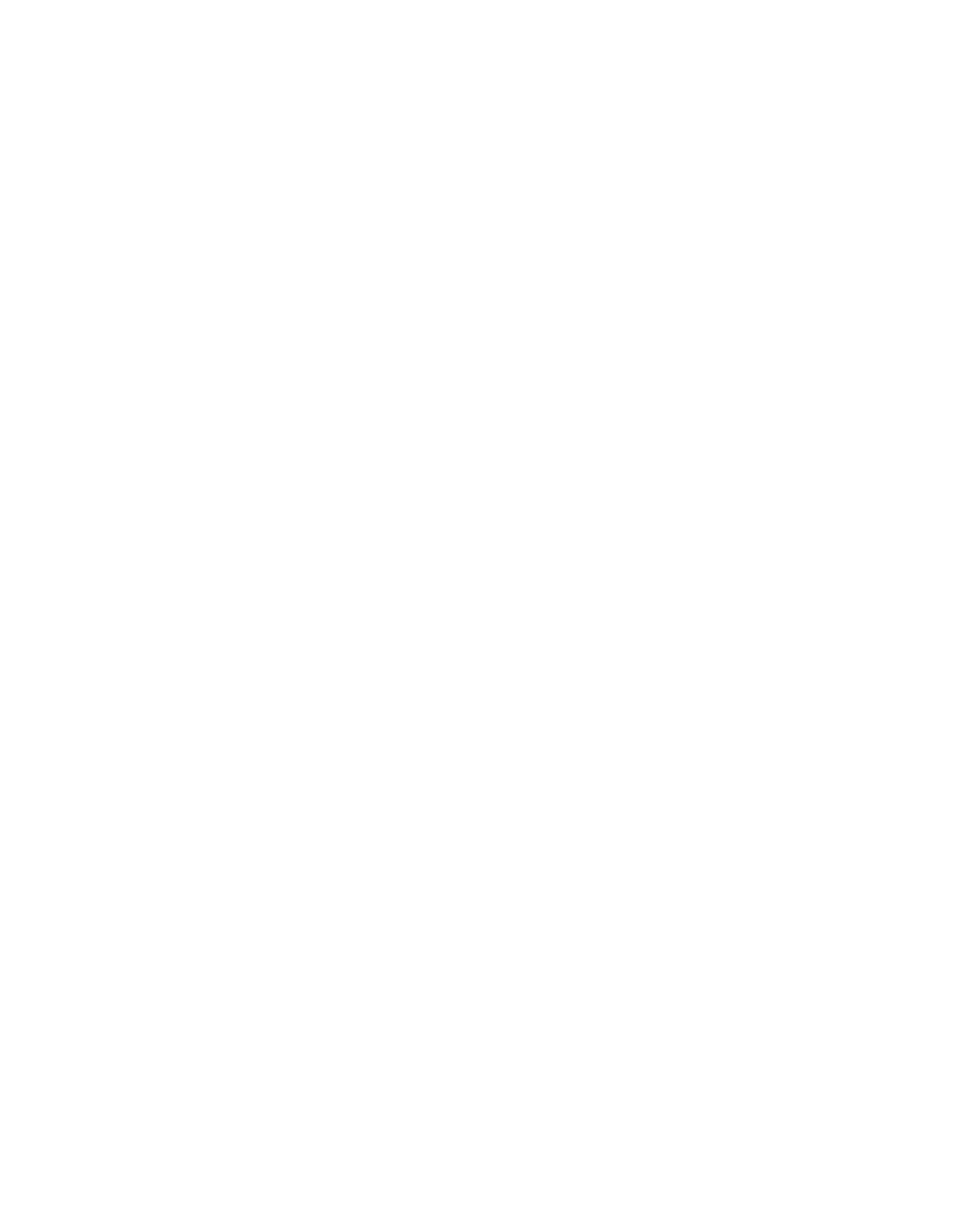
Реставрация Тадж-Махала. 1972
Как рабочий мог увидеть произведение искусства, не имея денег на дальнюю дорогу и досуга? Реставрируя его! Такая возможность появилась у «простых, душевных женщин», которые умеют «с удовольствием выполнять заданную работу, <…> делать классную кладку». В коллаже «Реставрация Тадж-Махала» на заднем плане изображен мавзолей Тадж-Махал, построенный по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана I в память о жене, Мумтаз-Махал. Этот архитектурный шедевр стал символом любви. В печати сообщалось, что к 1972 году его должны были отреставрировать. И Геннадий задумался: «Ну кто может это сделать?». Его мысли также занимали идеи «освобожденного женского труда, потому что многие женщины в процессе изменения социального статуса приобрели какие-то новые качества». Символ любви к жене могли бы отреставрировать «только женщины, которые имеют косвенное к этому отношение». Две женщины, «которые к этому никогда бы и не имели никакого отношения, ибо жили в своих радостных снах», смогли стать причастными к архитектурному памятнику.
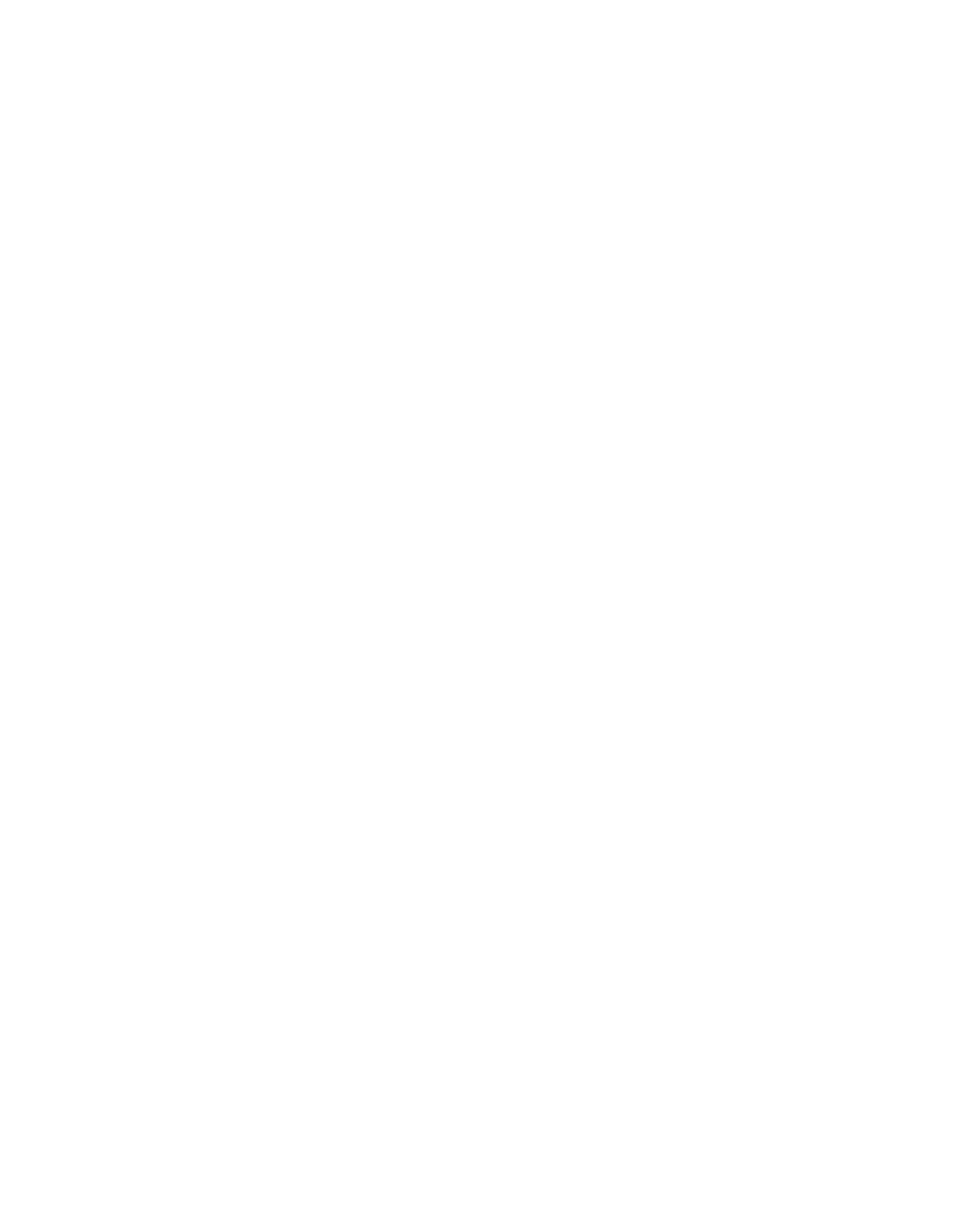
Завтрак аристократа. 1975
В серии «Два мира» Геннадий сравнивает две картины мира, разные типы мышления персонажей, оказавшихся в одинаковой ситуации, в едином пространстве. Например, в коллаже «Завтрак аристократа» около стола со скудной едой оказались бедный дворянин и балерина из советского театра в тот момент, когда посторонний неожиданно входит в комнату,— «человек, который как бы может оказаться инспектором». Но они по-разному реагируют на возможное разоблачение их бедности. Аристократ прикрывает свой стол; главный его страх в том, что входящий увидит его «нищенский завтрак» и разоблачит его «финансовое положение». Балерина о таких вещах не думает, ей безразлично мнение окружающих, она самодостаточна. Кавалер «поместил [ее] в эти малоприятные условия», но не стесняется «знакомой женщины». По мнению автора, аристократу повезло, что рядом есть кто-то, с кем можно быть собой, общение с балериной способно возвысить его душу, отвлечь от бессмысленной суеты.
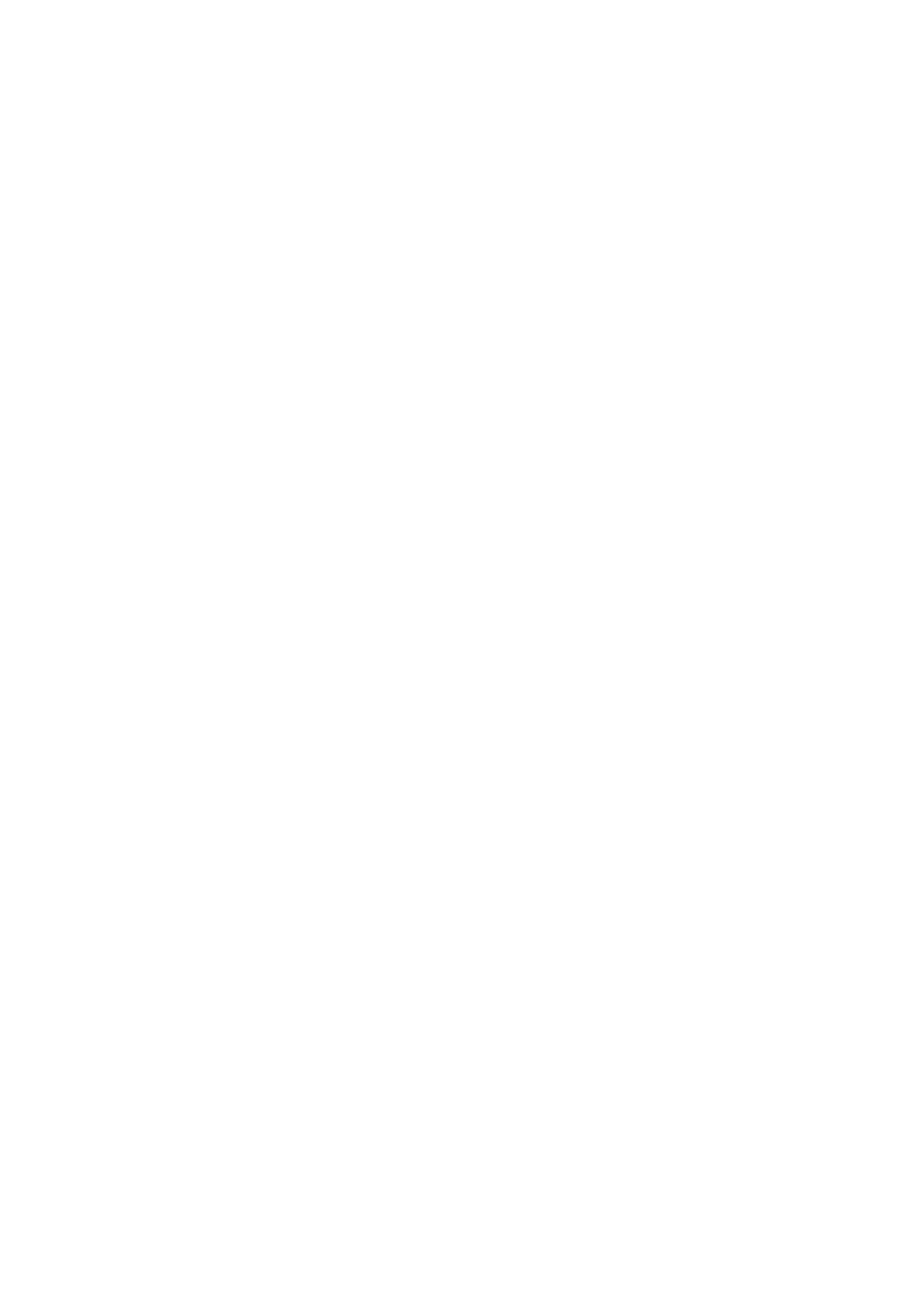
Прощай, свободная стихия. 1975
Два различных типа людей, которые пишут книги, две разные картины мира сравниваются в работе «Прощай, свободная стихия», в названии которой читается «Прощай, свободная Россия». Ленин и Пушкин, стоя на утесе, прощаются со свободой, но делают это по-разному. Эти персонажи находятся в одинаковой ситуации, каждый из них мог бы сказать: «Прощай, свободная стихия!». Перед нами два совершенно разных человека: один экспрессивен, его жесты театральны, Гущин комментировал: «Пушкин производит фокус со шляпой», а другой сдержан: «Ленин сдержан и корректен, у него свое понимание свободной стихии», - говорил художник. Они представляют разные картины мира — поэтическую и прагматическую. Гущина занимает именно эта разница темпераментов, но он не придумывает сюжет, не сочиняет мысли, которые могли бы быть у его персонажей: «я не знаю, это не мое же дело, почему они там образовались, да еще и с заданными мыслями и текстом. Потому что, если мы знаем, что Пушкин произнес такие слова, — есть стихи перед нами, а вот Ленин, он как бы, мы только предполагаем, что он тоже, наверное, произнес эти слова и у него свое». Данный коллаж — это сравнение двух типов творцов.
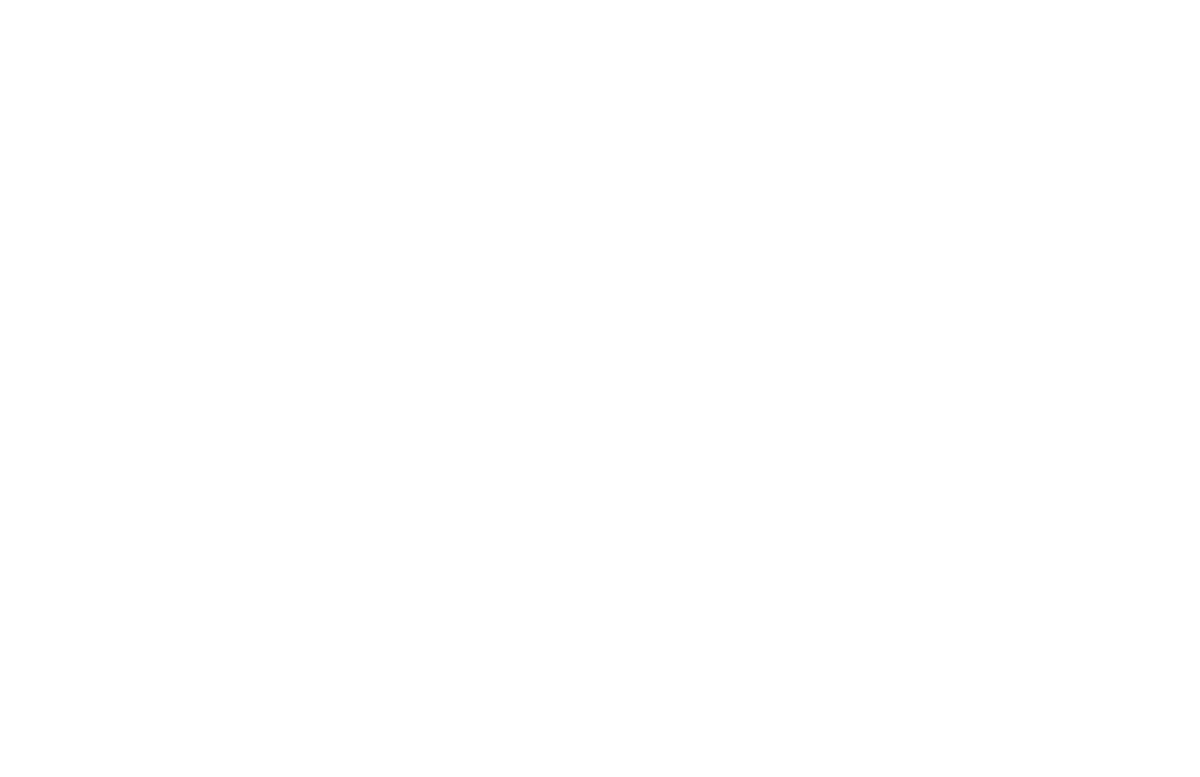
Жестокий романс. 1970
Гущин меняет историю в коллаже «Жестокий романс». Среди ходоков к Ленину никогда не было мещан, Владимир Ильич их не любил, но ходоки из крестьян и рабочих «были в общей эйфории и не могли передавать <…> этой жестокости, которая творилась в массе». Гитарист-бобыль, если бы попал к Ленину и спел ему, то смог бы как-то повлиять на вождя, ведь «Ленин любил вообще музыку, <…>этот человек “жестокий” романс исполняет. А жестокость Ленину могла быть присуща в каких-то определённых обстоятельствах». Ходоки у Ленина — это миф, созданный советской властью. Горький в 1924 году писал о Ленине: «Суровый реалист, хитроумный политик — Ленин становится легендарной личностью».
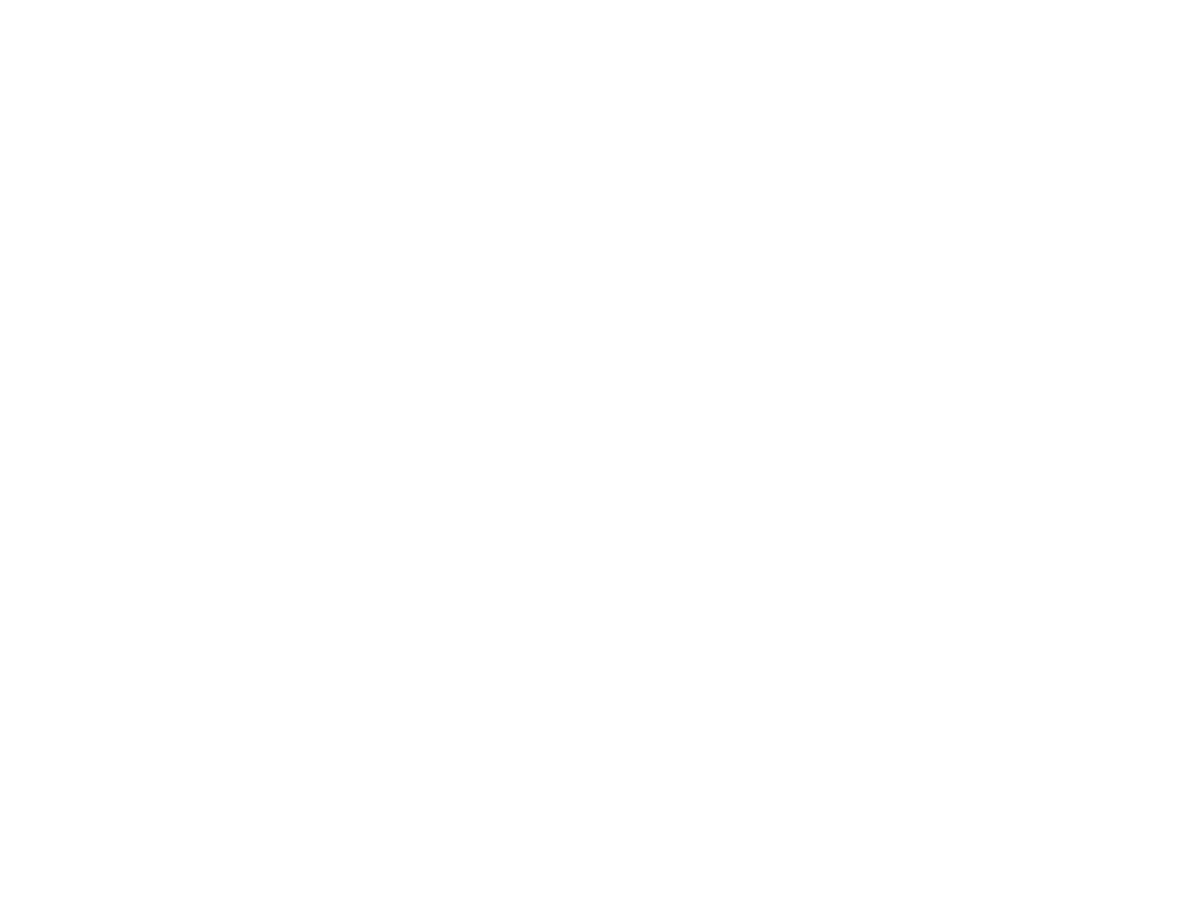
Ликбез. Гомункулус. 1980
В коллаже «Гомункулус» Гущин сравнивает уже не характеры, а две картины мира: прогрессивную и архаическую (но не дает предпочтения ни одной из них). Здесь встречаются «два разных персонажа из разного мира»: девушка, для которой характерно научное мышление, пытается объяснить что-то крестьянке, которая «не понимает даже слов, ею сказанных». Эти люди из одной страны говорят на одном языке, но между ними нет контакта, поэтому необразованная женщина встречает новую интеллектуальную элиту враждебно, слова девушки воспринимаются ею как что-то, что «может представлять для нее опасность какую-то». Гущин создавал этот коллаж, когда в стране активно обсуждался вред абортов, но тема работы шире, она именно про коммуникацию. Образованная девушка говорит о недоступных пониманию женщины материях. В центре композиции — «гипертрофированный образ будущего человека, некоего новорождающегося гомункулуса, гомункулус — это как бы новый мир». Но «рождение нового мира с неизвестными последствиями» может нести в себе опасность. Способен ли мир, заселенный невежественными людьми, принять совершенно новый порядок вещей, и не опасен ли этот новый мир? Смогут ли люди с двумя абсолютно разными типами мышления выстроить коммуникацию?
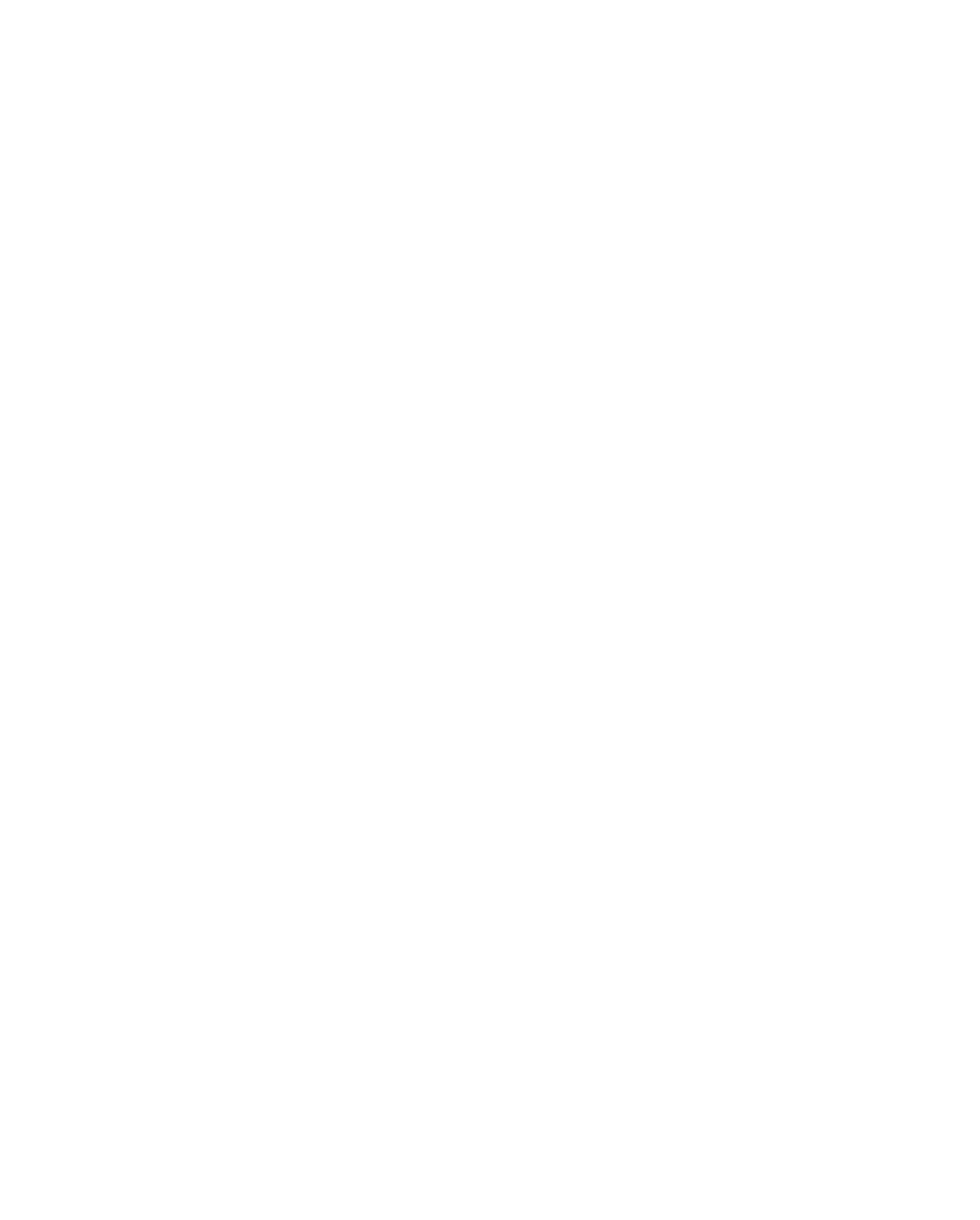
Степан Разин. 1970
В коллаже «Степан Разин» есть сравнение между патриархальным и современным мирами. В известную картину В. И. Сурикова вклеено изображение девушки с упаковки одних из первых нейлоновых колготок. «В это время стали появляться… колготки. <…> А она, в свою очередь, так одета, потому что для автора это, казалось, ее одежда», она почти обнажена, на ней нет ничего, кроме прозрачного нейлона, и для нее это норма. Противопоставлен ей богато, многослойно одетый Разин. гущин говорил: «И никто не задает вопросов: а как же так вот, он одет в такую одежду, там один кафтан, другой, то-сё, и не заботлив он, оказывается. А она в одном, значит, белье, ничего нет. Вот так, бывает. Это и говорит об отношении к человеку». Она попала в лодку совершенно из другого мира, для Степана она — посторонняя. Он раздумывает, как с ней поступить: утопить или оставить ей жизнь? «Собственно, почему он должен был выбросить ее за борт? Потому, что она выходит из другого пространства, ему не понятного… Вот поэтому Разин распоряжается особым образом, бросает ее».
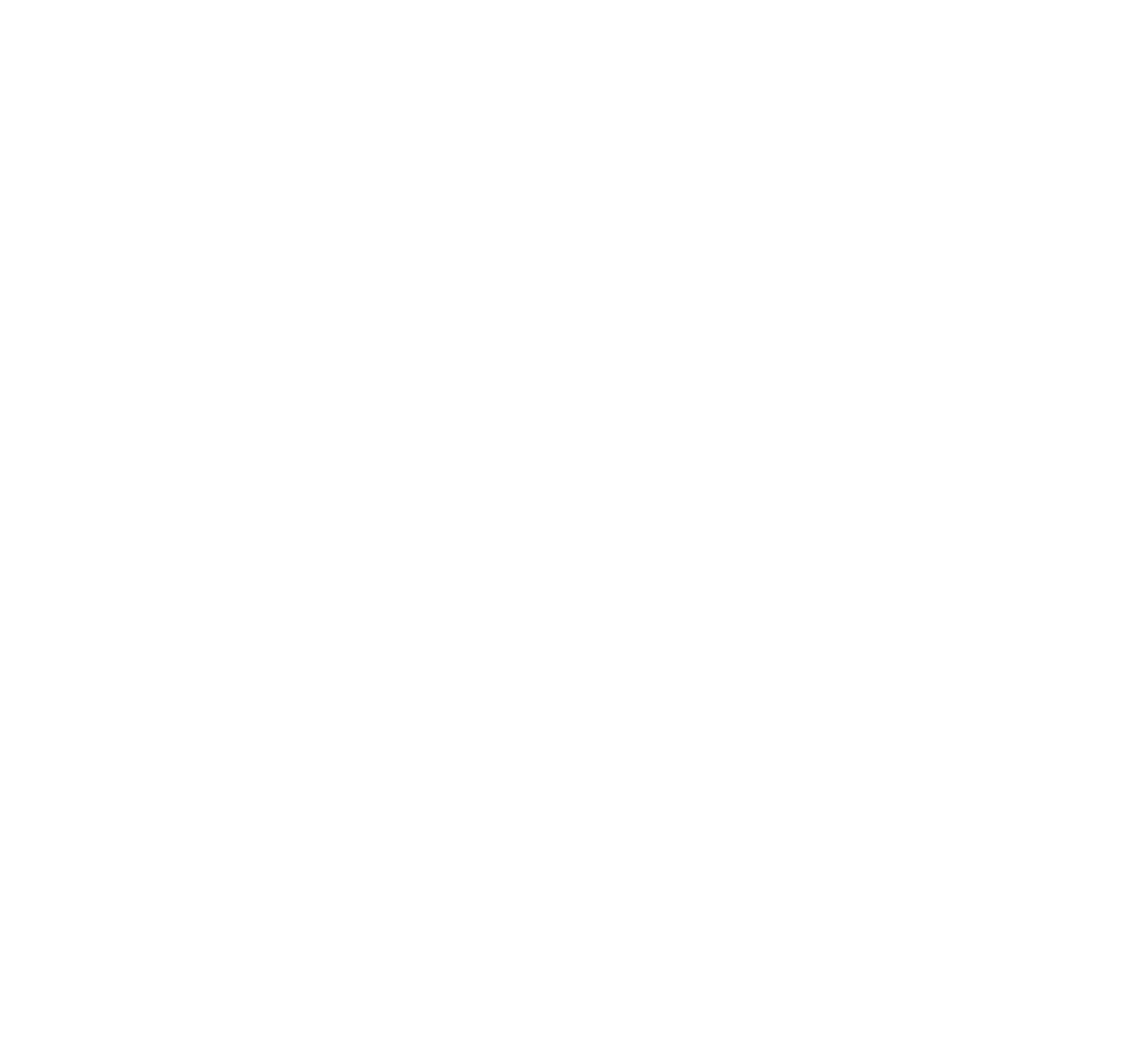
Античный пейзаж. 1990
Гармония бесконфликтного сосуществования двух миров занимала Геннадия Гущина. В коллаже «Античный пейзаж» сравниваются два мира в едином континууме — пространстве греческого эпоса, где соседствуют общество скотоводов — владельцев овечьих стад — и величественные мраморные храмы: «Две формы жизни», два «пространства существуют, могут существовать, да и, в свое время, существовали местами где-то». Удивительный контраст низменного быта и высокой классической архитектуры талантливо показан в этой работе: «Прозаическая жизнь, культурная, гонит стадо <…> это жизнь — коровья. А это — жизнь колонн великолепных. Две формы жизни. И обе убедительны и по свету, и по массам, потому что там, конечно, колонны занимают пространство другого порядка <…> это два мира, которые, оказывается, вместе живут, вместе существуют, но не пересекаются и существуют на радость зрителю».
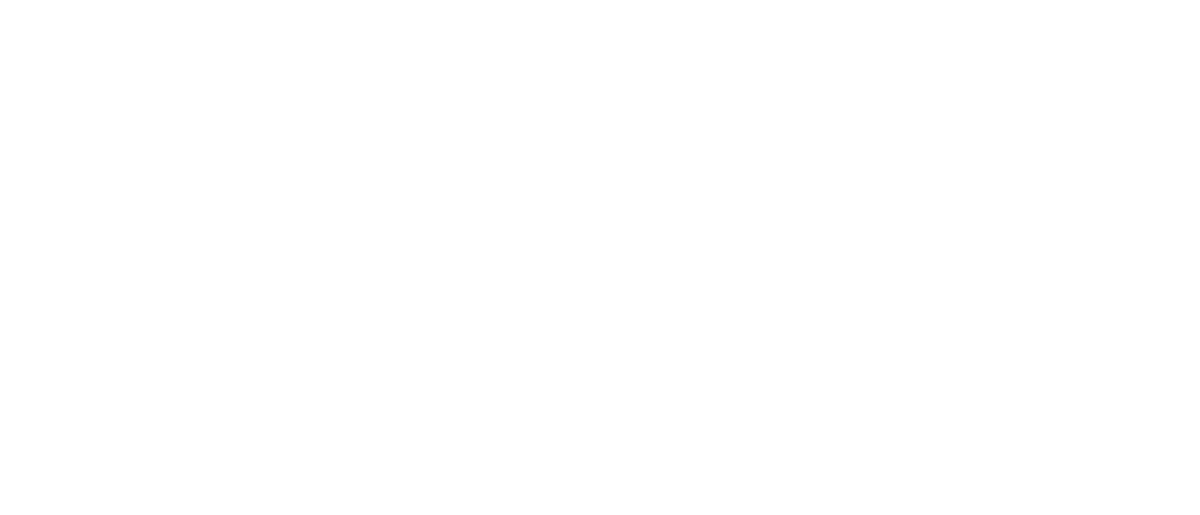
Салют и Демон. 1978
В коллаже «Салют и Демон» удачным оказалось совмещение двух разных пространств —фотографии вечернего праздничного фейерверка и образа, созданного М.А.Врубелем. «Он его писал многократно, менял пространство с ним, чтобы прийти к горизонтали… он делал разные варианты Демона, и его не удовлетворяло всё, потом он решил создать Демона сидящего», - говорил художник. У Гущина появилась «идея, что Демон сидящий в этой ситуации был бы недостаточен при его поисках тщательных <…> возникло ощущение, что, если бы он [Врубель] знал возможности, которые рождало новое пространство, он бы, безусловно, включил в пространство с Врубелем связанное [салют]. <…> И освещенный салютом, он [Демон] как бы приобретал качества другого знака. Он же оказывается на разном уровне самого пространства. То есть это нормально, поскольку пространство для него — ничто. Он смог находиться в этом пространстве, которое независимо, можно сказать, от нахождения его. Важно, что этот свет салюта торжественный, он создает определенное освещение и эффект значительности. <…> Может быть, он [Врубель] был бы и против, хотя, я думаю, что вовсе нет. Он бы оказался на стороне этого решения, потому что это свет салюта, который был ему еще в то время неизвестен, и он не знал этого дела, он [свет] оказывается впрямую связанным с самим Демоном». Действительно, в разрывающихся с грохотом светящихся огнях есть что-то демоническое.
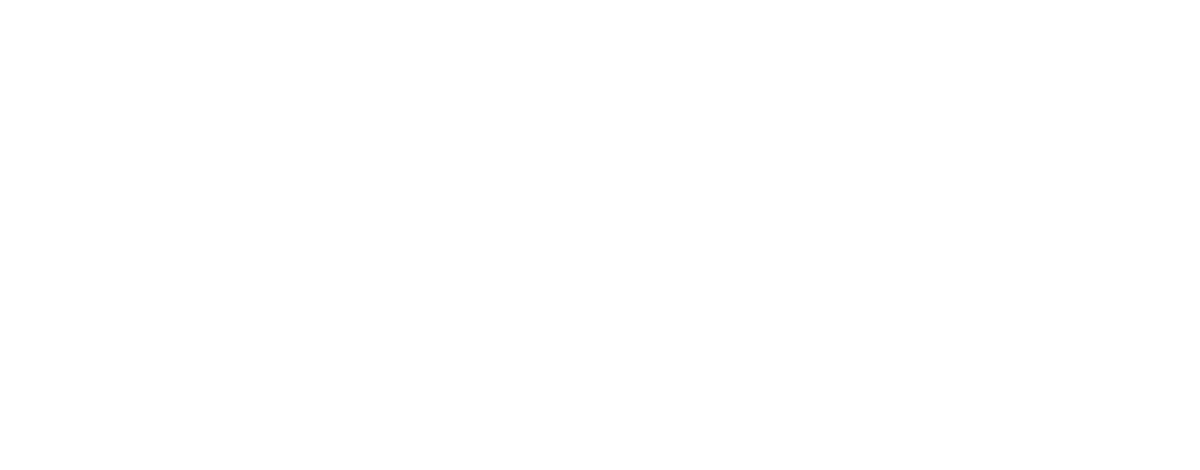
Полёт над Нью-Йорком. 1990
Еще одной темой, волнующей Гущина, является эмиграция. Вторая волна эмиграции — массовый отъезд из Советского Союза — пришлась на начало 1970‑х годов. Эмигрантов лишали гражданства, всякий, кто отказывался от советского гражданства, становился «предателем Родины». Имена художников и писателей, артистов и композиторов оказывались не просто под запретом — их буквально вымарывали из коллективной памяти. Они просто исчезали для тех, кто остался. Их проводы превращались в поминки. В 1977 году уехали Олег Целков, Виталий Комар и Александр Меламид и многие другие знакомые художника. В коллаже «Полёт над Нью-Йорком» «просто известные персонажи российской сказки… посетили на ковре-самолете [Нью-Йорк], какой-то путь проделали. Тут дело простое, без какого-то подтекста». Ковер-самолет оказался сказочной метафорой, связанной с представлением о нашем пространстве: «такое путешествие в это [чужое] пространство оказалось убедительно реальным, кажется, что так и было на самом деле». Это желание навестить другой берег: «Ковер-самолет — это же сказочный предмет обихода. Они используют его, чтобы на нем лететь. Не куда-то, а в Нью-Йорк. То есть исследуют пространство иного мира». Для нас родная сказка оказывается ближе, чем город за «железным занавесом».
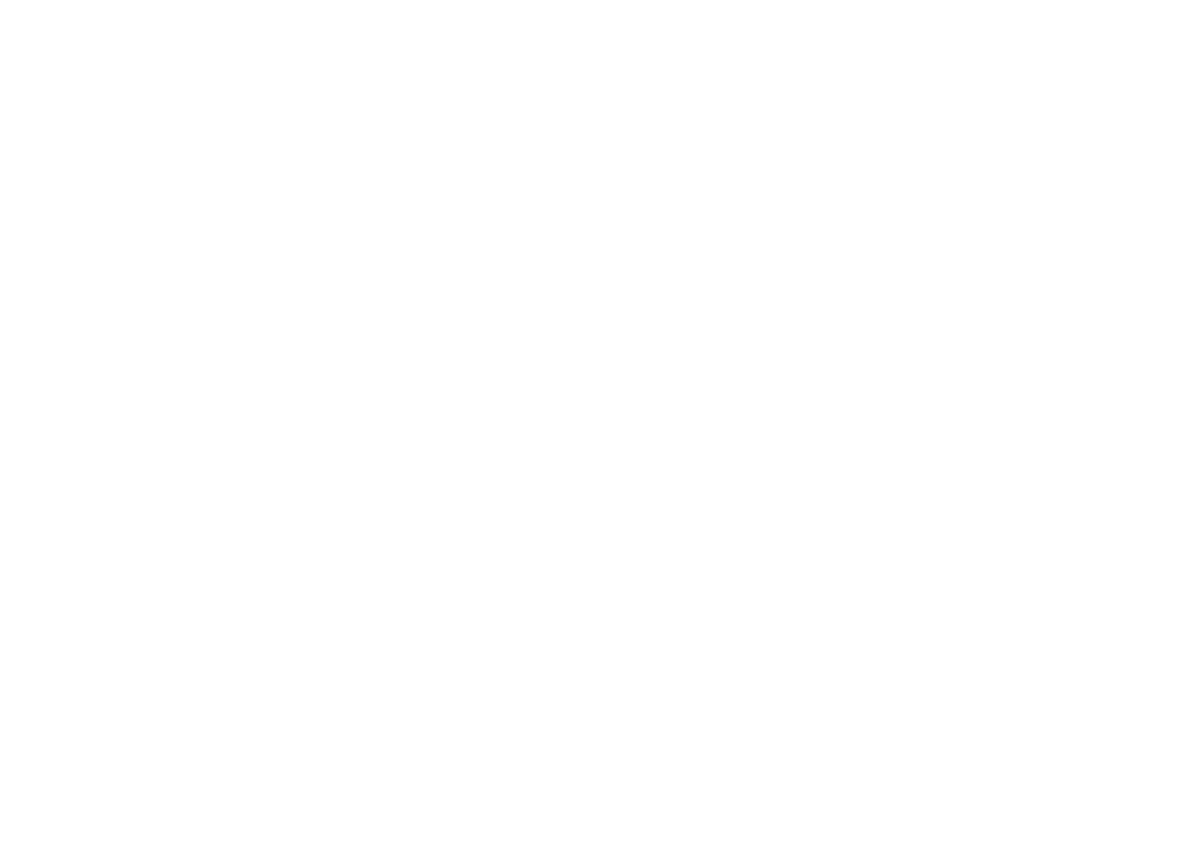
Встреча в парке.1980‑е
Серия «Неожиданная встреча» в некоторой степени курьезна, в ней нет драматического напряжения, но есть улыбка, словно вызванная анекдотом о персонажах современного городского фольклора. Одна из таких историй могла бы начинаться так бы начинаться так: «Врывается как-то Чапаев в графский парк…». Чапаев нечаянно оказался среди чуждых ему людей: «Он попал в это общество, явно для него неожиданное. Явно высшее, и он это понял и поднял коня своего на дыбы». Он впервые в подобном парке, но антагонизма нет, он просто хочет соответствовать: «Он вошел в этот мир из чужого пространства, ему не принадлежащего. Но в нем он себя должен вести достойно, конь поднят на дыбы, и он так удало и убедительно там сидит».
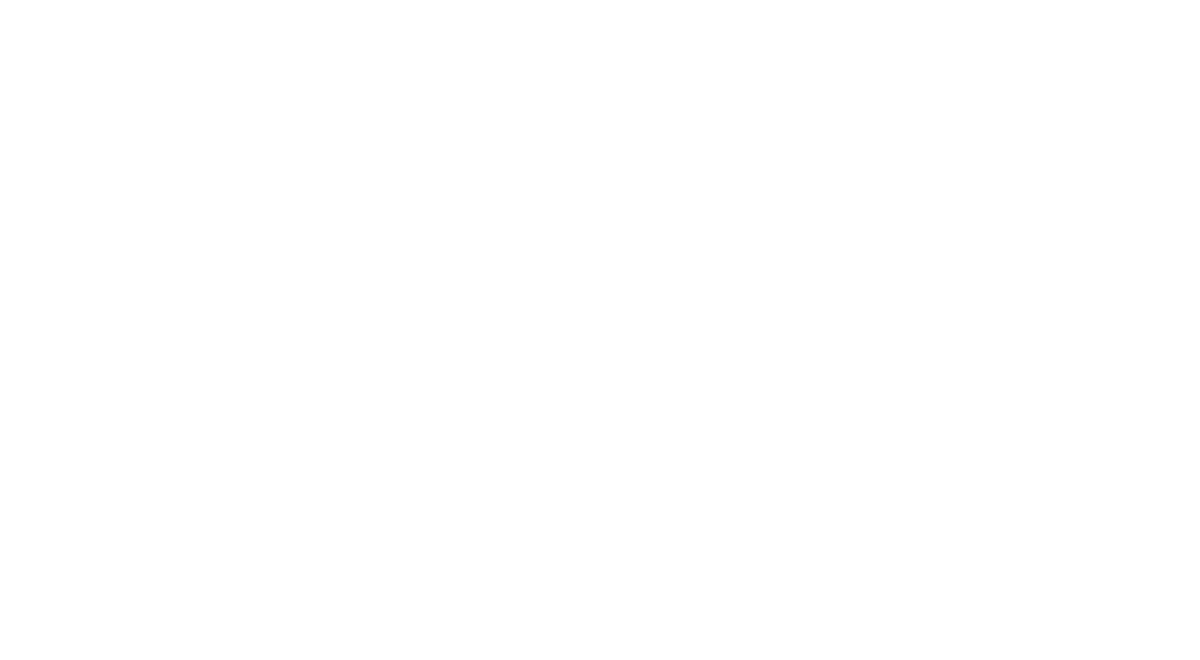
Всадница с Богатырями. 1985
Тема встречи на дороге раскрывается в коллаже с Богатырями и Всадницей. «В моем представлении, три богатыря находятся в задумчивости <…> они мечтали о царице своей» и ждут, «кому она предпочтение отдаст <…> она, естественно, абсолютно из чужого пространства». Неловко Богатырям, внезапно встретившимся с Всадницей в коллаже «Всадница с Богатырями», но между ними уже есть немой контакт: «Некий взгляд есть, от Поповича идущий <…> Илья Муромец несколько отвернут от барышни и поэтому как бы стесняется немного».
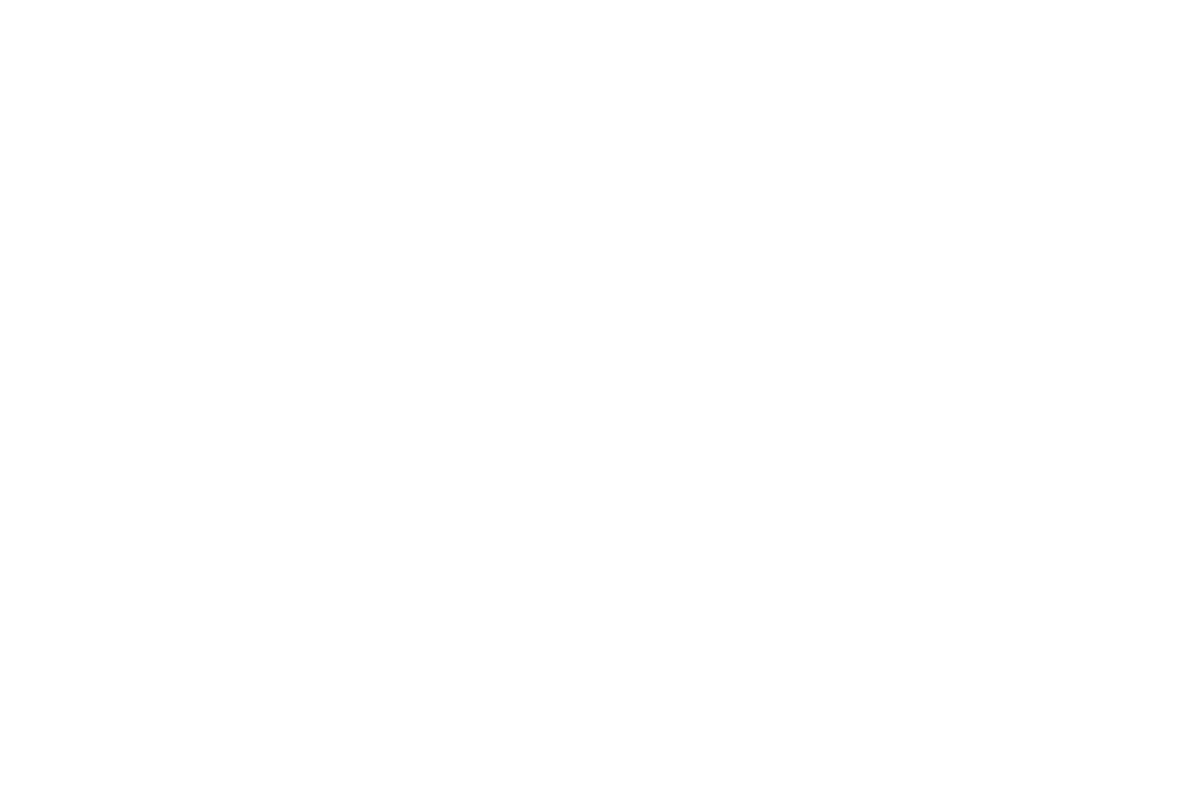
Пушкин в сосновом лесу II. 1980‑е
Поэт сидит, повернувшись к животным, но он задумчив и погружен в свои мысли. Однако медведи не обращают внимания на внешнее и погружены в собственную повседневность: «Мишки, они своей жизнью живут, занимаются этими медвежатами, не обращая внимания на поэзию, собственно, как и поэт не обращает внимания на то, что там есть медвежата».
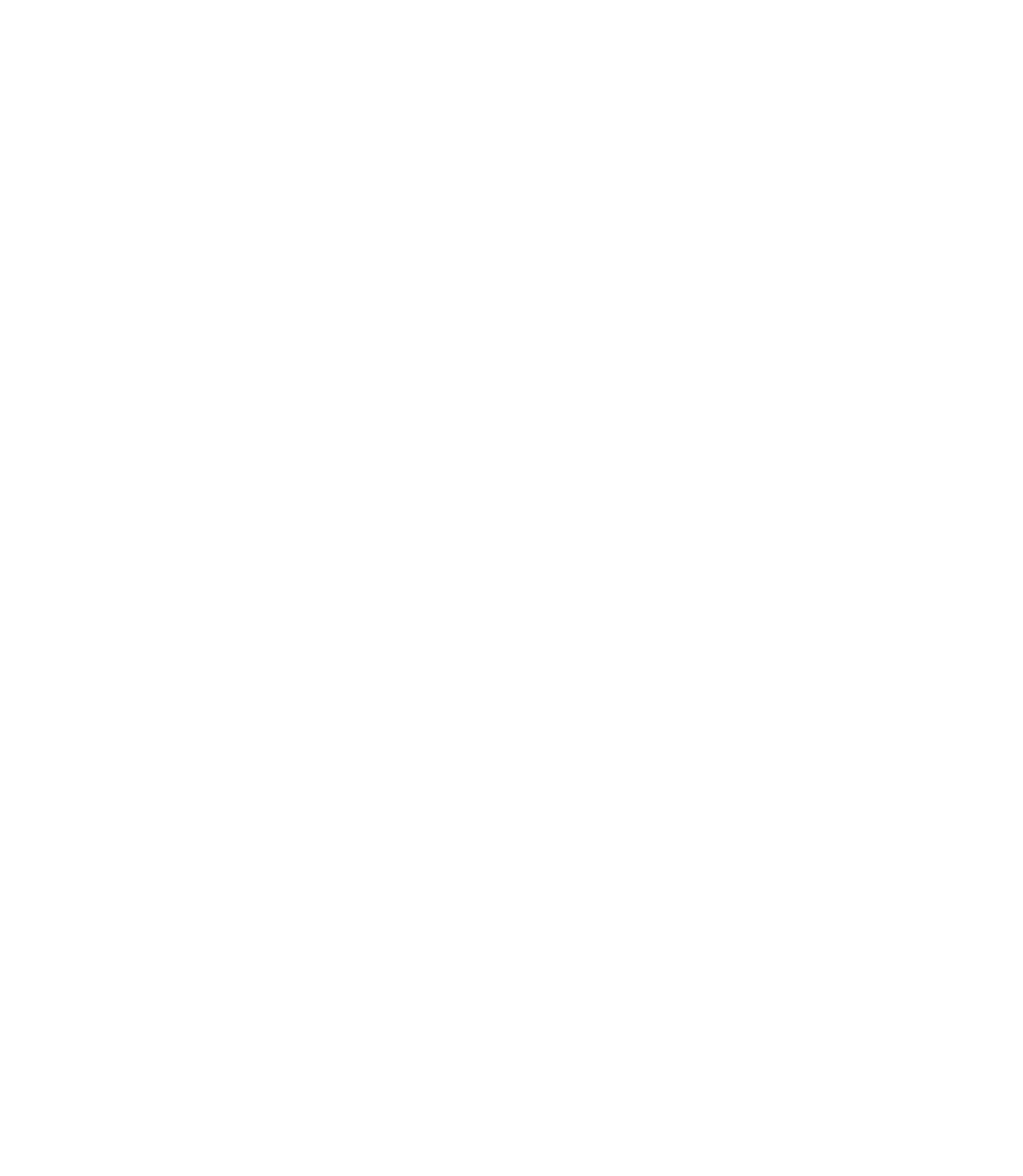
Мираж во льдах Арктики. 1968
Неожиданная встреча — с этой темы Гущин начал делать свои коллажи, одним из первых стал «Мираж во льдах Арктики». Матросы на атомном ледоколе «Ленин», «который давно идет», неожиданно увидели явление, совмещающее в себе все их грёзы. Это некая «сказочная фея <…> Снежная Королева… явившаяся неожиданно во льдах Арктики <…> Потом могут об этом спорить и говорить: „ты что видел?, а я девушку с бантом на голове“». Это мираж во льдах Арктики, «универсальный мираж <…> с горном таким, трубой, который призывно может действовать <…> труба такая, ангела-архангела. <…> Во льдах Арктики все может быть». Это неожиданная встреча с мечтой.
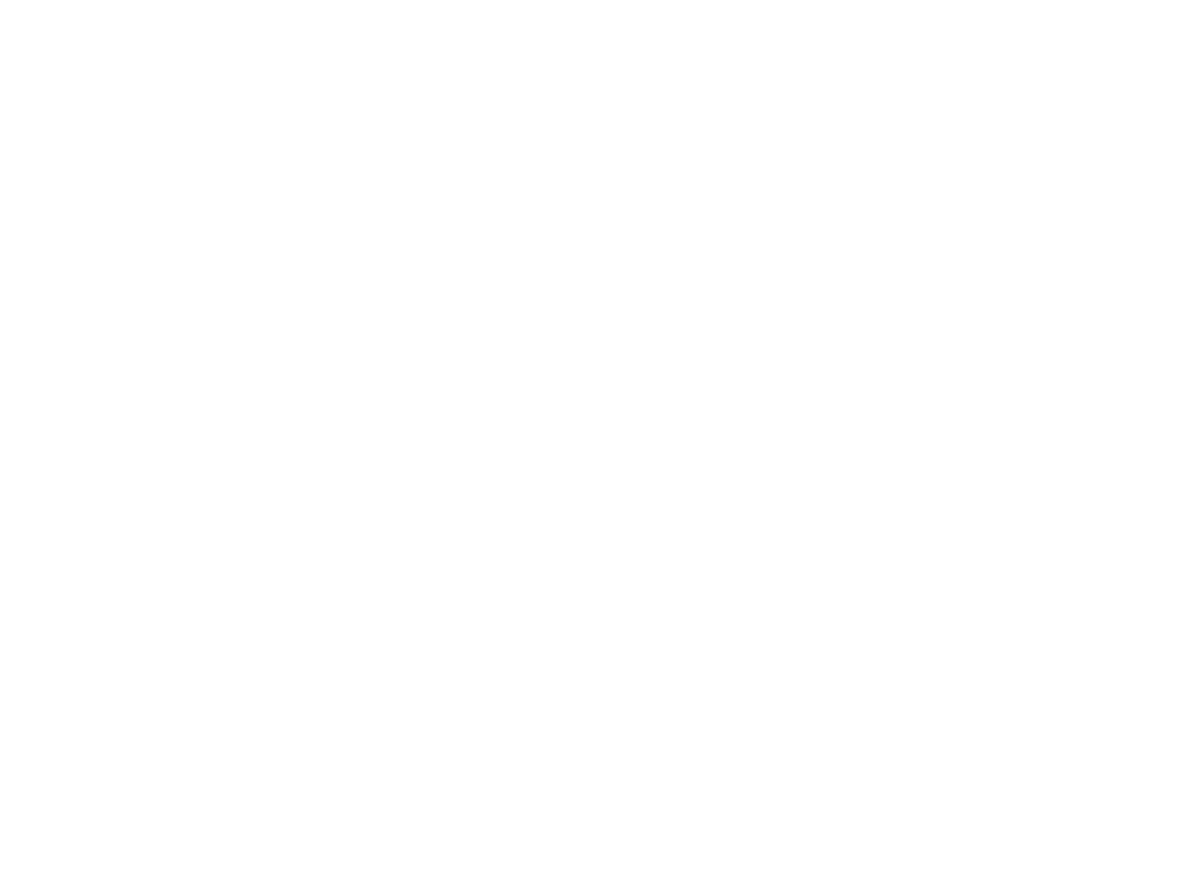
У дороги. 1970
В коллаже «У дороги» гротескных охотников на привале с картины В. Г. Перова встречает зек: «Этот человек как бы сразу понял все, что там происходит. А он знает другое». Картина Перова была чрезвычайно популярна и стала частью изобразительного фольклора — известно множество анонимных самодельных ковриков с этим сюжетом, вплоть до самых комичных, когда охотники размещены на телеге, впряженной в летящую тройку лошадей. У Гущина охотники становятся частью пейзажа, по композиции и цвету сливаются с ним, это не отдельные люди, а обобщенный образ, «три характера». И зек становится неожиданным глотком реальности, которая бьет, словно обухом по голове, заставляет очнуться от грёз и выбраться из плена повседневной, рутинной, запрограммированной идеологией или обществом потребления жизни стада на убой, расходного материала. Зек — это тот, кого уже «отдали на убой». Общество, где массой правят с помощью идеологии, религии или идеи безудержного потребления, — это расчеловеченное общество. Вернуть массе индивидуальность каждого помогают такие оплеухи. Фигура зека выделена, она расположена с краю. Он —"человек, который прошел сложную жизнь, находится в более трудных обстоятельствах". Один из охотников напрягается, рассказывая байку, а зеку смешно то, что важно этим людям. Он видел нечто по-настоящему ужасное, не мистическое, а то, что способен сотворить человек с другим человеком.
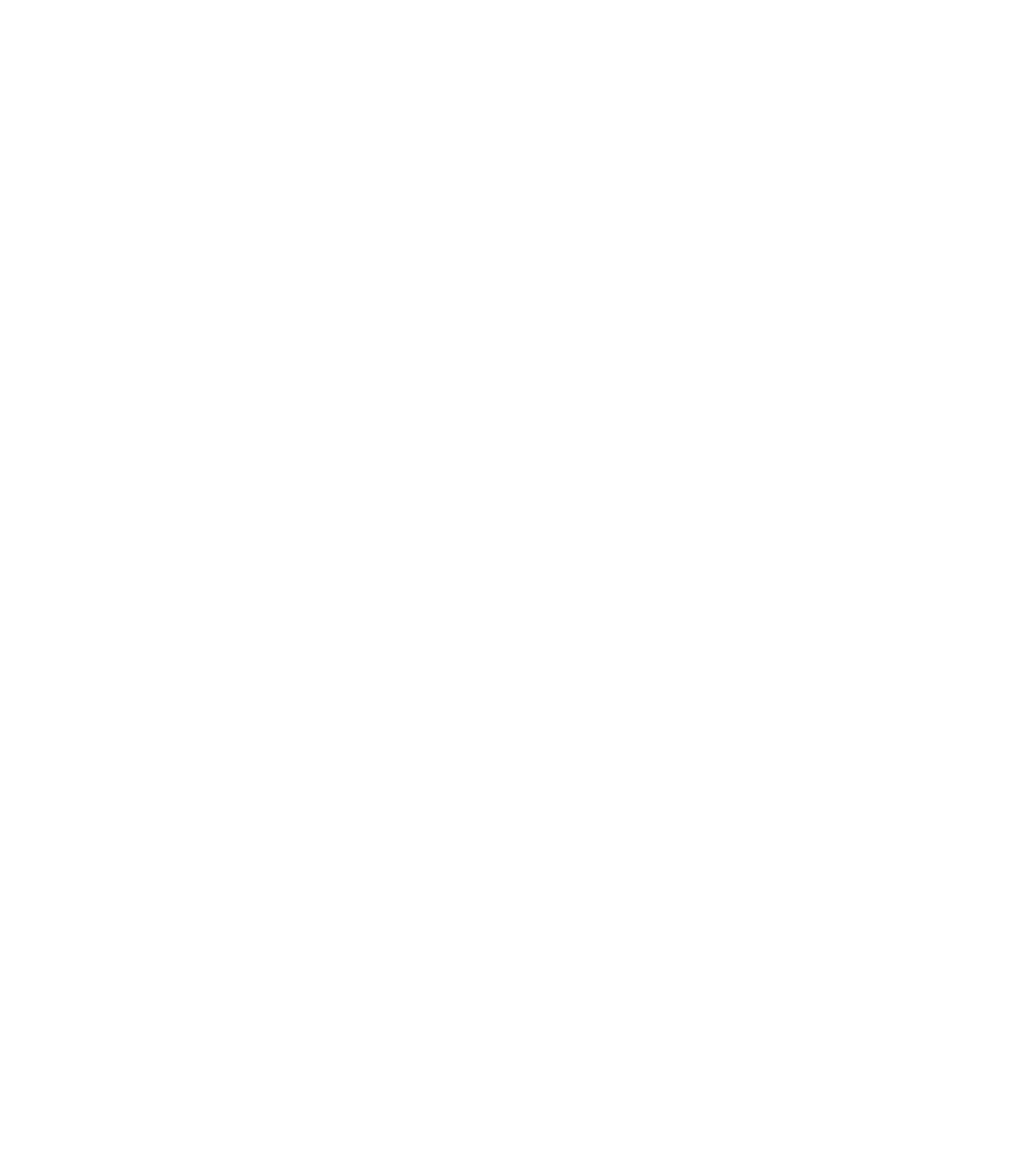
Лебединое озеро. 1985
В эскизе, предполагающем использование коллажа «Лебединое озеро», изображение помещено в центр сцены, трава на коллаже естественно переходит на изображение травы на заднике сцены. Реальная фотография становится органическим дополнением сценического пространства, а Майя Плисецкая убедительна в любом пространстве: она «попала в зону, которая может считаться достойной Плисецкой, и Плисецкая достойна этой реальности <…> потому что в Плисецкой нет ничего отторгающего, раздражающего. Есть какая-то мягкость…». Изображения настолько гармонично дополняют друг друга, что вполне могли бы существовать в реальности: «Это попытка убедить в том, что могло бы быть. Многие коллажи связаны еще с понятием „такое может быть“ или „как бы“. Реальность, которая могла бы быть, потому как все, что там есть, связано с актрисой». Живой лебедь составляет пару с балериной, «чтобы было ощущение полной реальности».
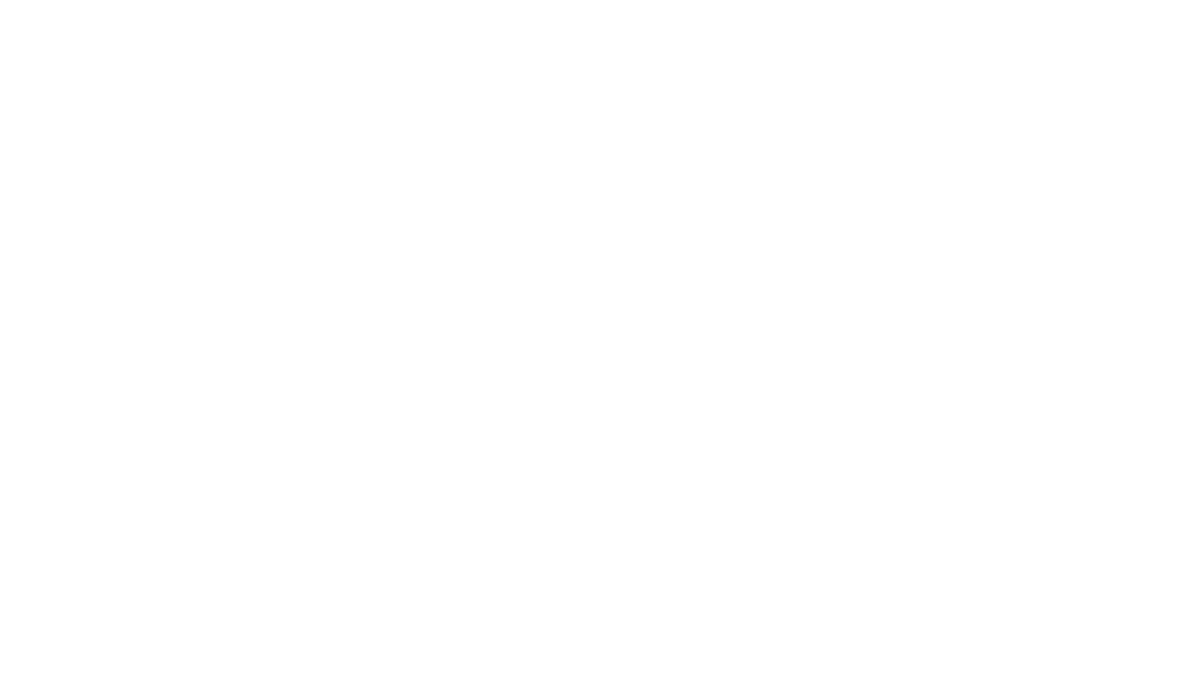
Инцидент (Косцы). 1976
В коллаже «Косцы», где крестьяне спокойно заняты косьбой, а рядом погибает человек, на которого накинулся лев, мы видим противопоставление: общественная мораль велит нам прийти на помощь тем, кто борется за свою жизнь, кажется, что косцов стоит осуждать. Но автор не делает этого: «Люди заняты своим очень важным делом, и как бы [если] упустят они этот час», час жатвы, то в будущем им будет угрожать голод. Иными словами, трагедия происходит с чужим, с кем-то не из их общины, от них событие настолько далеко, что воспринимается как фантастичное (не так ли мы воспринимаем новости по телевизору о катаклизмах, голоде и эпидемиях в далеких от нас странах?) Люди заняты делом своей жизни, события жизни других от них максимально отчуждены.
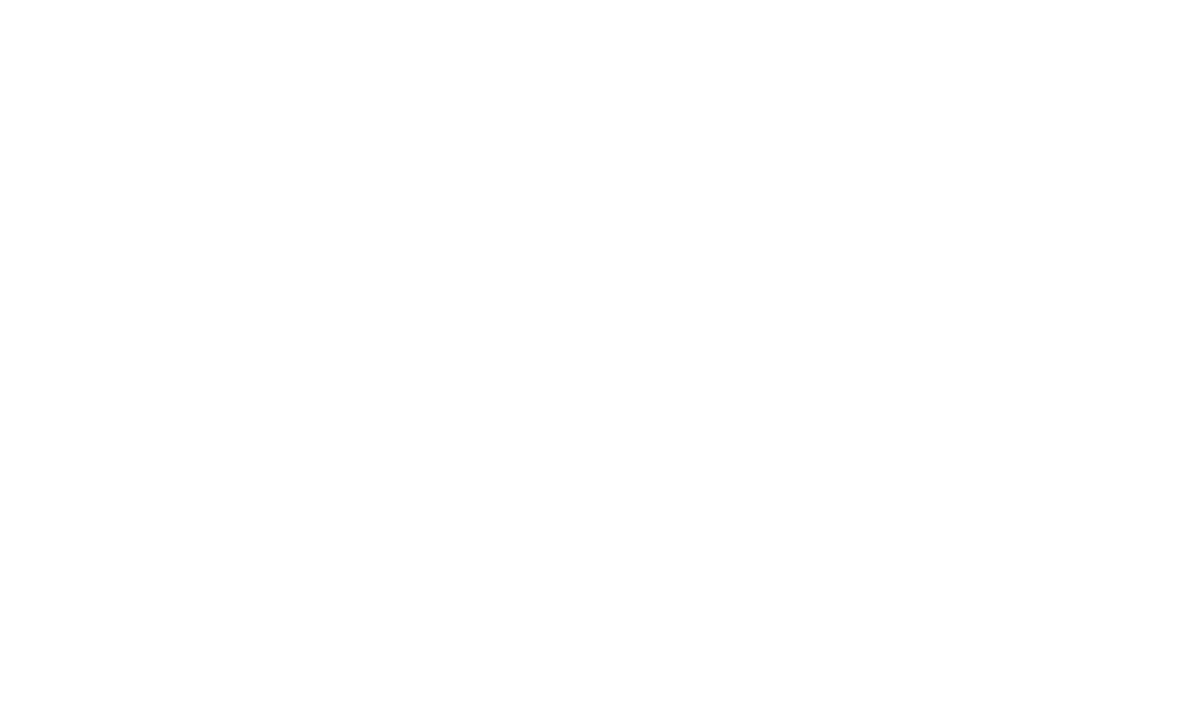
Игры на воде. 1985
В коллаже «Игры на воде» молодежь на переднем плане веселится в то время, когда на заднем происходит страшное крушение. Самое ужасное, что от людей исход страшного события не зависит. Они могут попытаться помочь — и погибнут. Гущин не говорит, что все должны страдать, пока где-то бушует стихия, не осуждает и пир во время чумы. Но эта ситуация драматичней, чем в «Косцах»: ничто не оправдывает равнодушия людей: они «хотели развлечься на этой гибели». В то время феномена «селфи» не было. Но были туристы, фотографировавшиеся на фоне мест трагедий: «Ты видишь эту вот гибель судна, поэтому, оказывается, знаешь, что эти персонажи играли… Не обращали внимания и хотели развлечься на этой гибели». Сейчас эта тема очень актуальна, мы знаем множество примеров съемки бедствий на видеокамеру телефона.
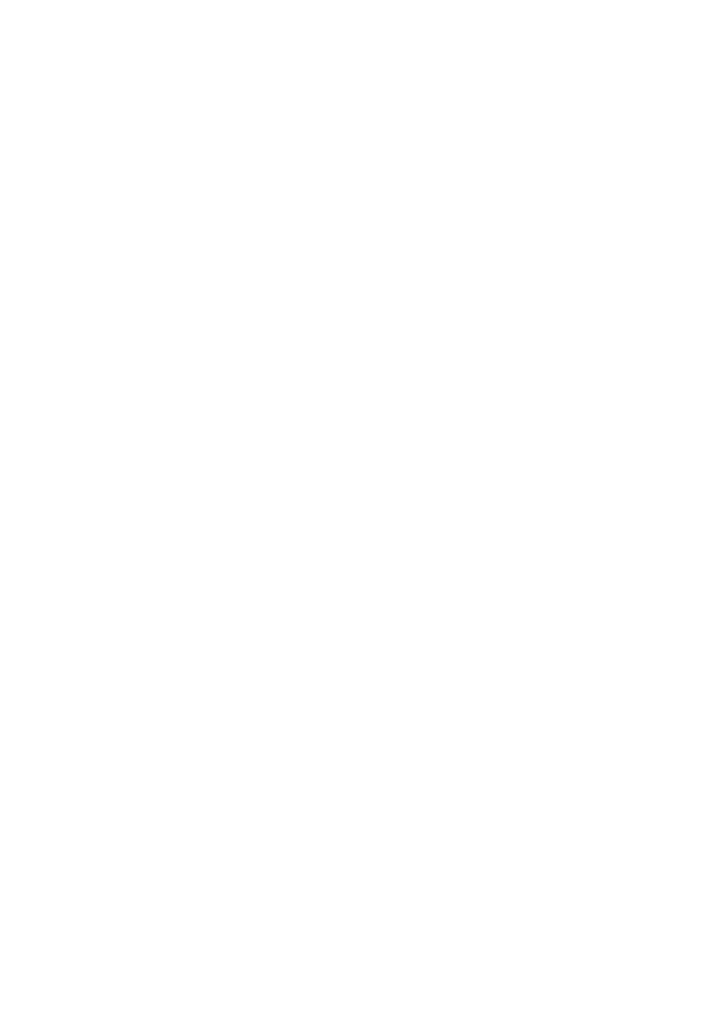
Спасатели. 1981
Как нужно реагировать на внешние обстоятельства? Как вести себя, когда ты понимаешь, что вокруг тебя происходят события, которые войдут в историю? Поведению людей на фоне катастроф посвящена серия «Свое-чужое».
Идеальна ситуация в коллаже «Спасатели», где к тонущему кораблю, заимствованному из полотна Ивана Айвазовского «Радуга», мчится бригада спасателей, и нет сомнения, что профессионалам удастся эта операция.
Композиция коллажа выполнена так, что у зрителя создается ощущение, что он сам находится в шлюпке спасателей посреди разгула грозной стихии.
Идеальна ситуация в коллаже «Спасатели», где к тонущему кораблю, заимствованному из полотна Ивана Айвазовского «Радуга», мчится бригада спасателей, и нет сомнения, что профессионалам удастся эта операция.
Композиция коллажа выполнена так, что у зрителя создается ощущение, что он сам находится в шлюпке спасателей посреди разгула грозной стихии.
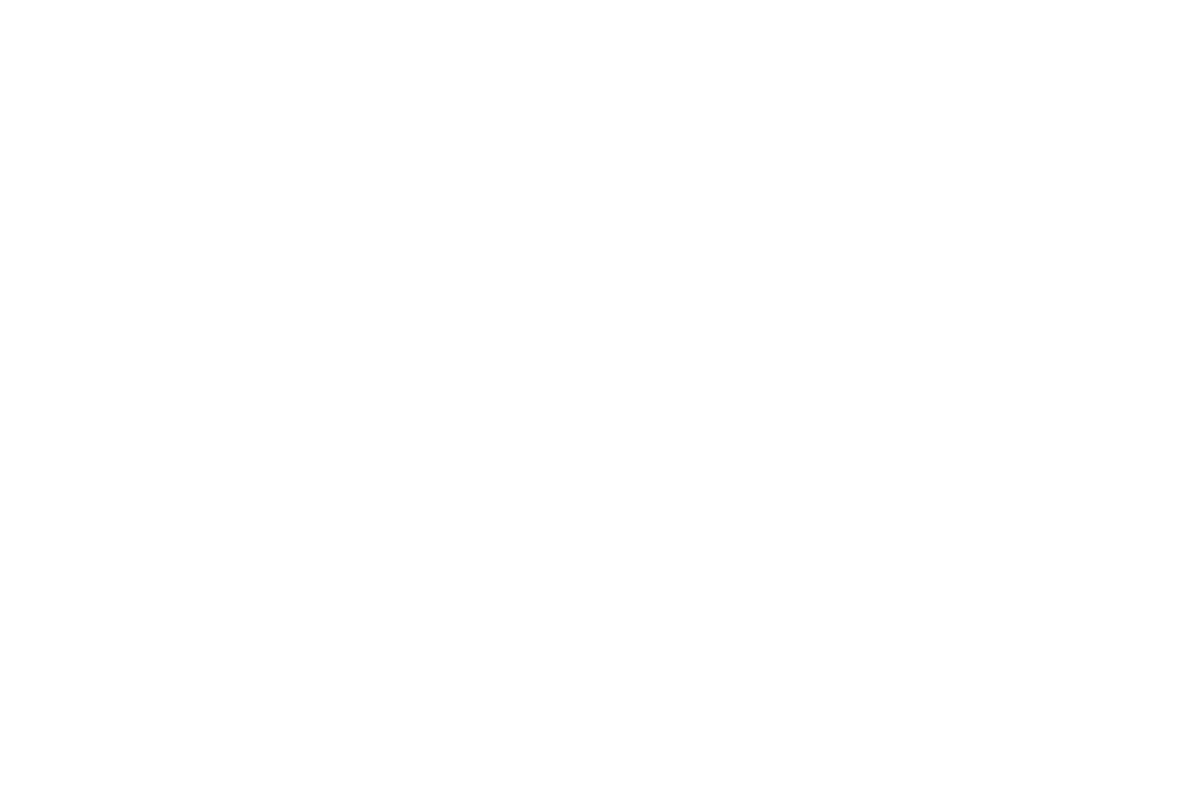
Русский Икар. 1970
Стоит ли пытаться помочь другому — тому, кто терпит крушение? У Геннадия нет ответа на этот вопрос. Он открывает сторону русского менталитета: желая помочь, человек гибнет сам. Коллаж «Русский Икар» Гущин сравнивает с фильмом Андрея Тарковского «Андрей Рублев»: «Русский человек пытается прийти на помощь тонущему человечеству, вооруженный одними крыльями — это неосуществимый такой процесс, он мало чего может сделать». Художник размышляет над русской историей: в самосознании народа заложена концепция о том, что спастись можно только всем миром. Русский пытается всех спасти, но гибнет сам и никого не спасает: «Такое печальное событие, только сочувствуешь персонажу, получается такой традиционный русский Икар, с неразрешимой задачей». Безусловно, это депрессивная работа не философа, но художника, проживающего трагические моменты истории своей страны: революция в России позволила изменить социальное устройство во многих странах, в них появилось и гендерное, и расовое равноправие, голос получили профсоюзы, рабочие обрели социальное страхование, но сама Россия распадалась дважды — в 1917 и 1991 годах.
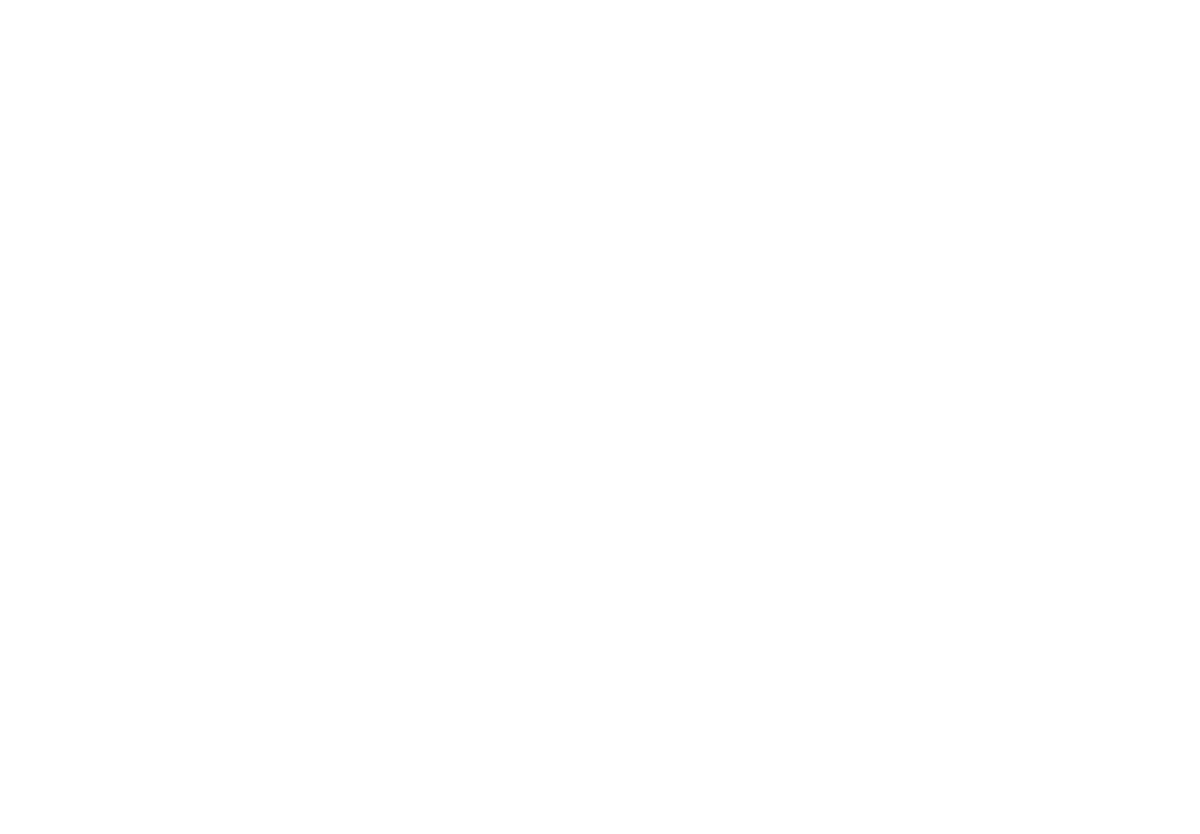
Гибель Помпеи. 1979
Аллегория крушения империи — это гибель Помпеи: «Помпеи, в данном случае, такой образ погибшего мира, полностью, от которого ничего не осталось. <…> Более убедительного образа гибели целого государства мне не приходилось видеть. <…> С одной стороны, все становится ясно и видно, а с другой стороны, сочувствие вызывают люди». Тот, ктоживет в исторических событиях, может по-разному относиться к ним, эти события похожи на стихию. «Персонажи — это целая история, которую можно с интересом обсуждать и рассуждать» о ней. Кто-то может пытаться сопротивляться. Кто-то — быть защитником: есть персонаж, «рядом с вождем сидящий и как бы участвующий в его защите, прикрывающий его».
А кто-то — безучастен: «Спокойное, расчетливое наблюдение и чтение каких-то записей». И самое страшное, безучастен тот, кто «эту гибель Помпеи устроил». В коллаже «Гибель Помпеи» показано самое страшное отношение к катастрофе, не просто безразличие к горю, а провоцирование гибели: «Ленин сам сочувствия не вызывает, потому что он спокоен», он ее автор.
«А что сама гибель, которая свершается? — это природное, отчасти,
явление, в котором человек может не участвовать, просто наблюдать или как-то сопротивляться этому".
А кто-то — безучастен: «Спокойное, расчетливое наблюдение и чтение каких-то записей». И самое страшное, безучастен тот, кто «эту гибель Помпеи устроил». В коллаже «Гибель Помпеи» показано самое страшное отношение к катастрофе, не просто безразличие к горю, а провоцирование гибели: «Ленин сам сочувствия не вызывает, потому что он спокоен», он ее автор.
«А что сама гибель, которая свершается? — это природное, отчасти,
явление, в котором человек может не участвовать, просто наблюдать или как-то сопротивляться этому".
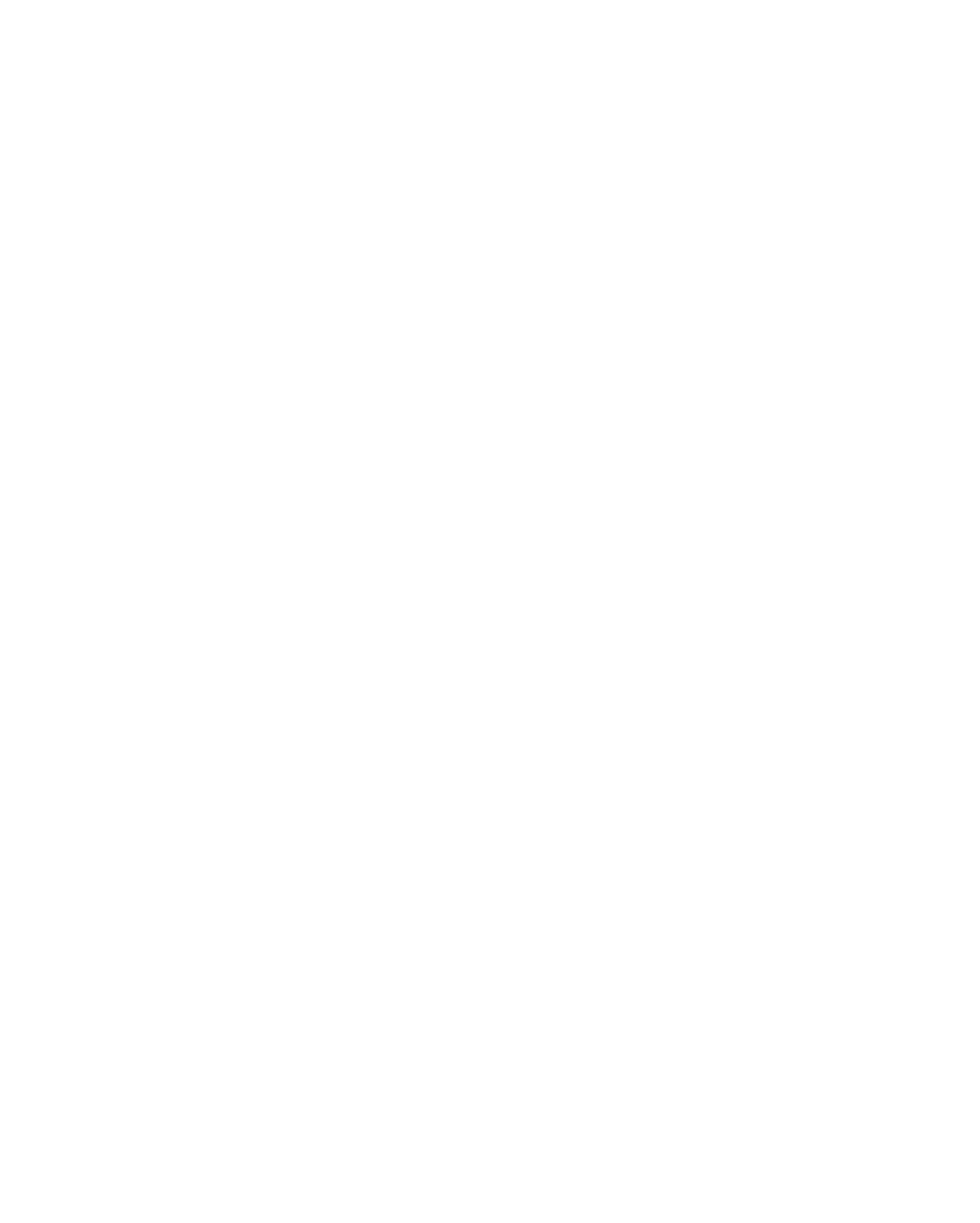
Ренессансный портрет. 1989–1990
Сложное отношение к перестройке Геннадия Гущина можно обнаружить в коллаже «Ренессансный портрет». В ней Горбачев с его идеями — загадка для современников, связанная со множеством надежд: «Исключительность должна присутствовать
и бывает у людей, облеченных властью и важностью, [с] какой-то позицией".
Улыбка Джоконды на лице Горбачева — это «некая реальность, которая просвечивает через лицо. На самом деле это просвечивает другая реальность».
и бывает у людей, облеченных властью и важностью, [с] какой-то позицией".
Улыбка Джоконды на лице Горбачева — это «некая реальность, которая просвечивает через лицо. На самом деле это просвечивает другая реальность».
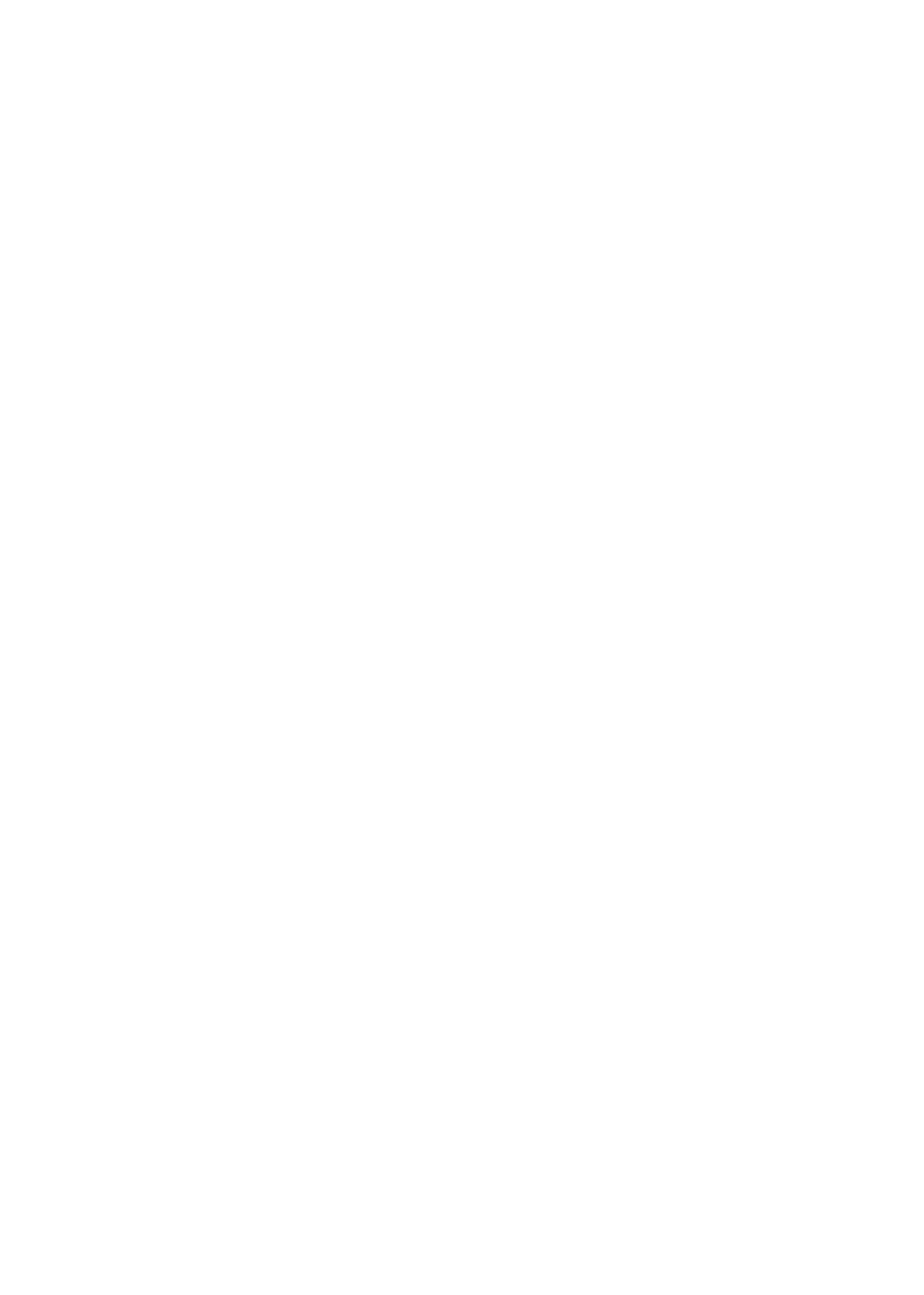
Фотография на паспорт. Кон. 1990 — нач. 2000‑х годов
Гущин создает полиптих «Фотография на паспорт» из коллажа «Ренессансный портрет», где он задавался вопросом о загадке личности, начавшей Перестройку. В полиптихе найден ответ — это разочарование: Горбачев оказался таким же, как и все, банальным. Важно отметить, что к самому образу Джоконды общий посыл не относится, она — случайный персонаж, ее невольно, без спроса втянули в события: «Очень выразительным оказался портрет Джоконды, она присутствует зримо и незримо».
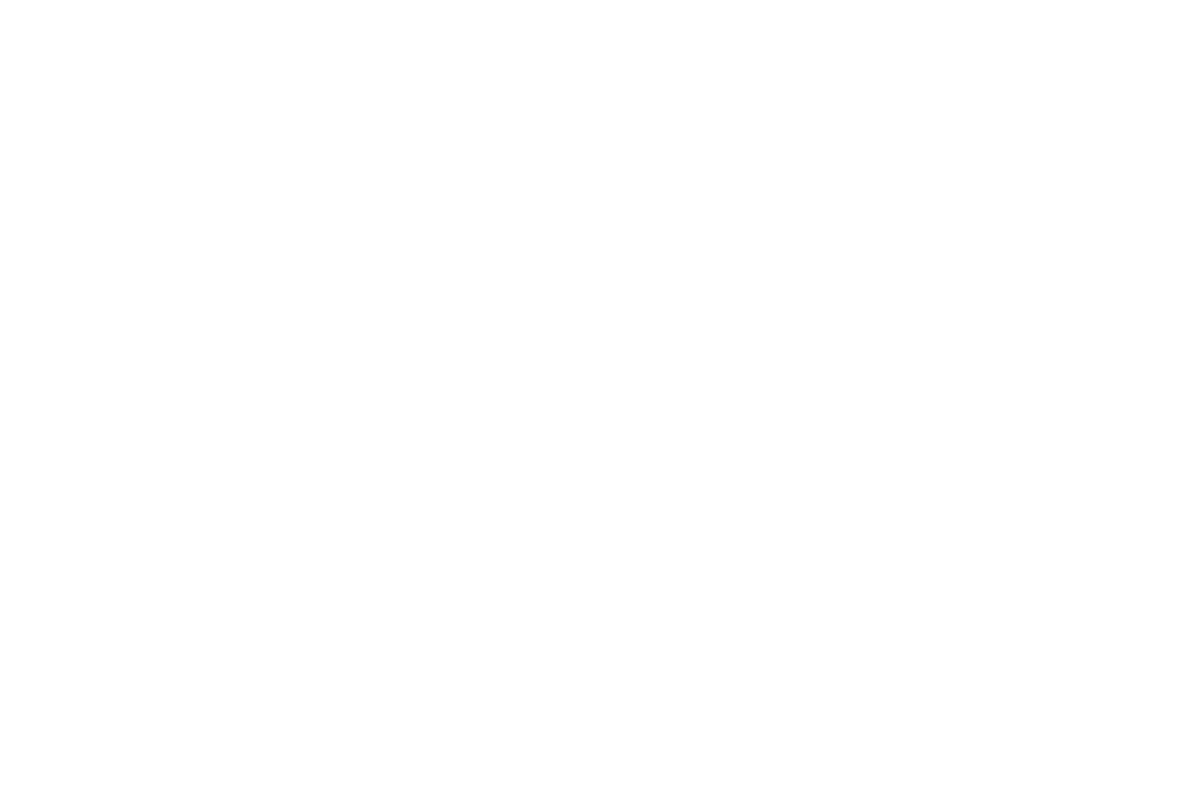
Арка Главного штаба. 1985
Революционная мифология складывалась и благодаря кинематографу. Режиссер Константин Державин снял масштабную постановку «Пролеткульта» к трехлетней годовщине Октябрьской революции, — «Взятие Зимнего дворца» (1920). В одной из сцен через арку Главного штаба проходят толпы вооруженных людей. «Народ проходил, который революцию делал, то есть это часть легендарного пространства, оно не реальное». Так родился убедительный образ того, как совершалась революция. В коллаже «Арка Главного штаба» Гущин развенчивает этот миф, на самом деле исторические события развивались иначе. Поэтому художник помещает в нее безмолвный ночной пейзаж Айвазовского «Штиль. Вид Капри», так что возникает эффект «раскрытого» окна в другой мир. «Я тут пытался показать, что это пространство такое одинокое и пустое, с одинокой лодкой». Революционная семантика снята: «А там оказывается спокойная среда, такой свет благородный и одинокая лодка, которая олицетворяет какую-то попытку поиска нового пути и попытку вхождения в какое-то новое пространство <…> чисто умиротворенное такое состояние солнца, воды».
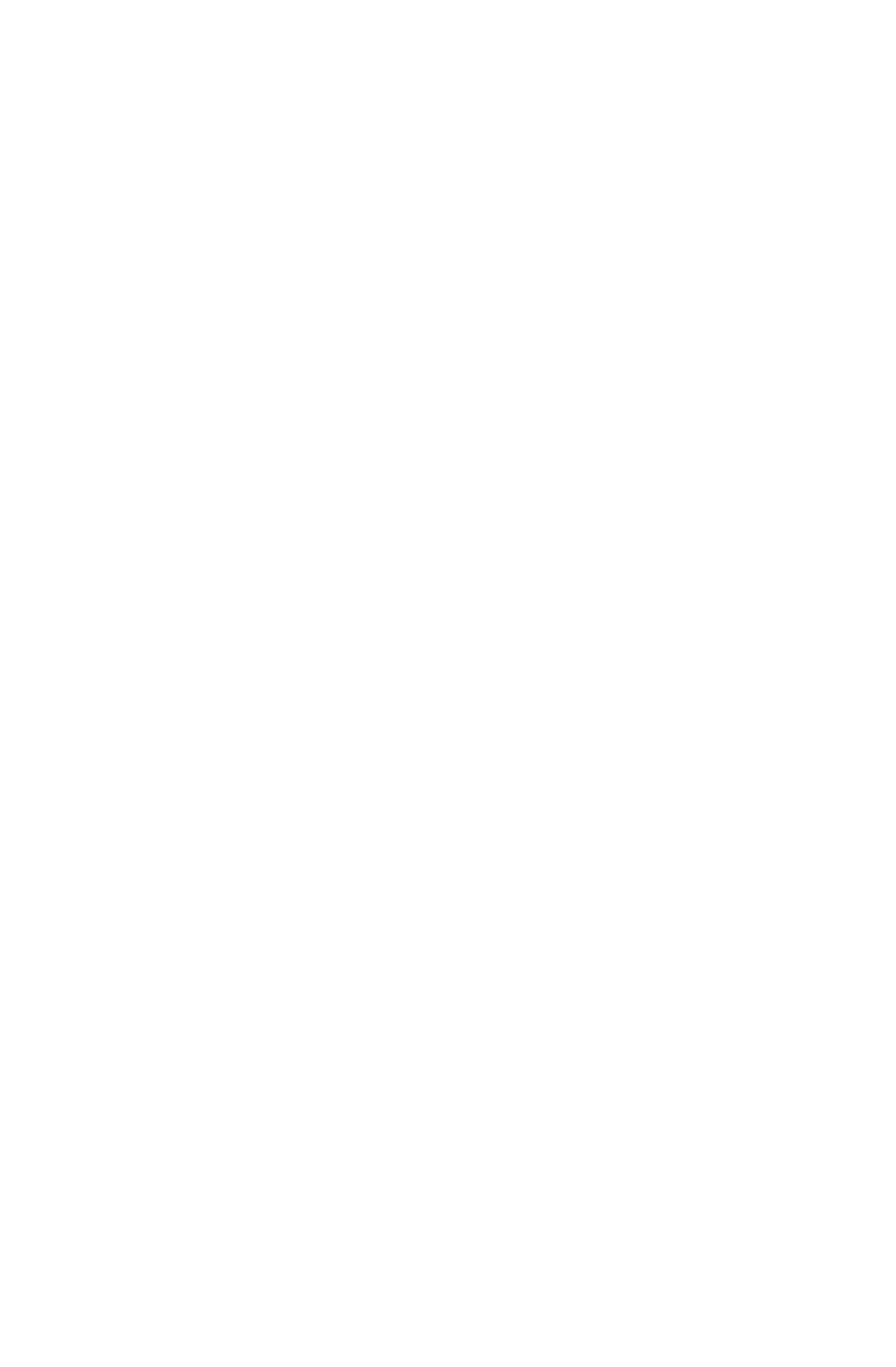
Перед отплытием. 1980‑е
Коллаж «Перед отплытием» снова поднимает тему эмиграции. На переднем плане, на нашем берегу, провожающие «устроили кордебалет». А эмигранты собираются отплыть на небольшой лодке, мало кто из них сможет устроиться в новой жизни, неизвестно, ждут ли их на другом берегу. С уехавшими было чрезвычайно трудно поддерживать контакты, но это не значит, что друзья о них не вспоминали. Для мыслей и фантазий нет расстояний.
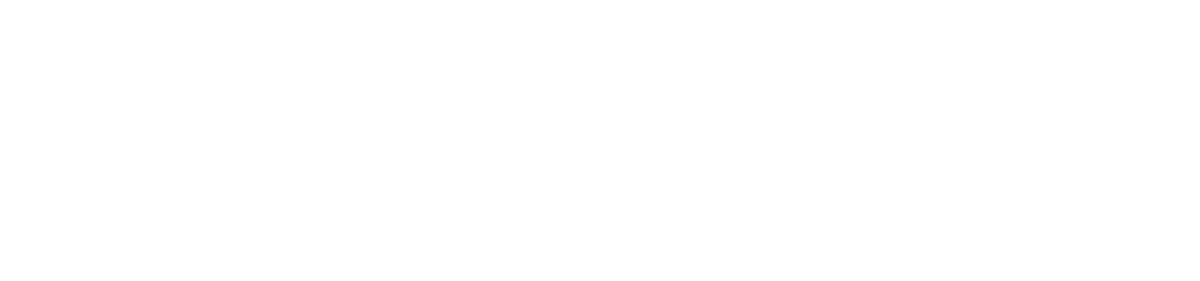
Битва. 1998
Восприятие исторического времени современником показано в коллаже «Битва». В отличие от остальных работ, в нем оказались объединенными три картины, где представлены победоносные деяния русской истории. На них изображены сцены из мира славянской древности. Все эти сюжеты на самом деле легендарны, мы не знаем доподлинно, что происходило в реальности: «Нам это неизвестно, нам это подают, как историю известную рассказывают: был такой вот Пересвет». Далекое прошлое для современника — другой мир, поэтому неудивительно, что в едином пространстве оказались события, которые разделяют века: «Тут несколько таких сцен, всё как бы из одного мира», но при этом это «сцена мира не нашего … Мир наш, но и не наш». Славянская древность — это мифология, вокруг которой строится современная государственность: «Важно, что они все вместе, сообща, какоето общее дело делают <…> борются за независимость России». Другое название коллажа — «Битва за независимость».
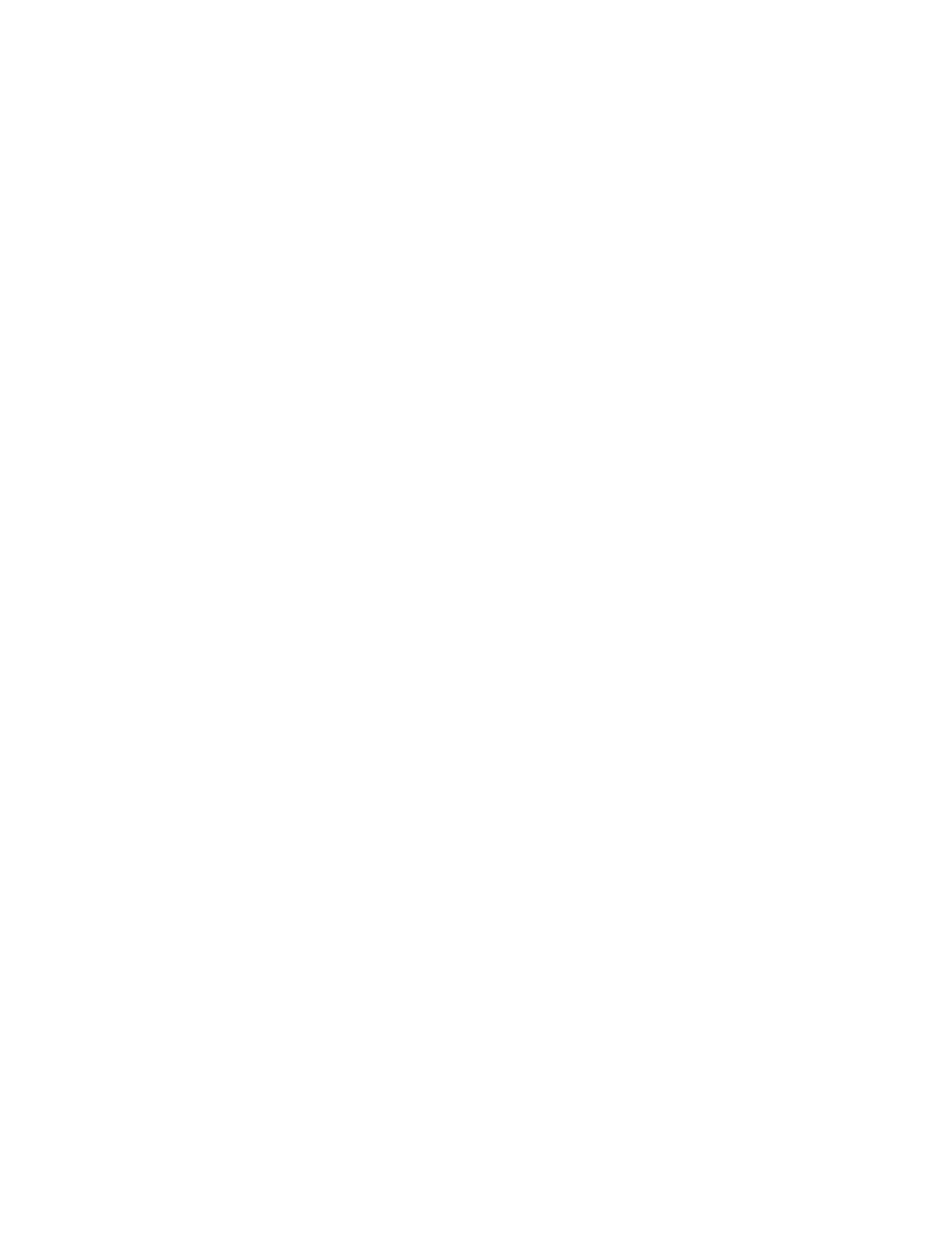
Сбор урожая. 1980
Поднятие целины, выезды «на картошку» — советское изобразительное искусство умело и своевременно обслуживало государственные экономические задачи. Привлечение к неоплачиваемым сельскохозяйственным работам граждан, занятых в других сферах экономики, — это организованное добровольно-принудительное использование труда, на которое также активно была направлена пропаганда. К таким работам с конца 1960‑х годов привлекались главным образом школьники, студенты, солдаты срочной службы, работники бюджетных учреждений. Выезды «на картошку» в России прекратились лишь в первой половине 1990‑х годов.
В коллаже «Сбор урожая» студентка приехала на уборку зерна, а вокруг пустыня, и собирать нечего. Эта работа — аллегория продовольственного дефицита: «Тогда был период, когда в России проблемы возникли».
В коллаже «Сбор урожая» студентка приехала на уборку зерна, а вокруг пустыня, и собирать нечего. Эта работа — аллегория продовольственного дефицита: «Тогда был период, когда в России проблемы возникли».
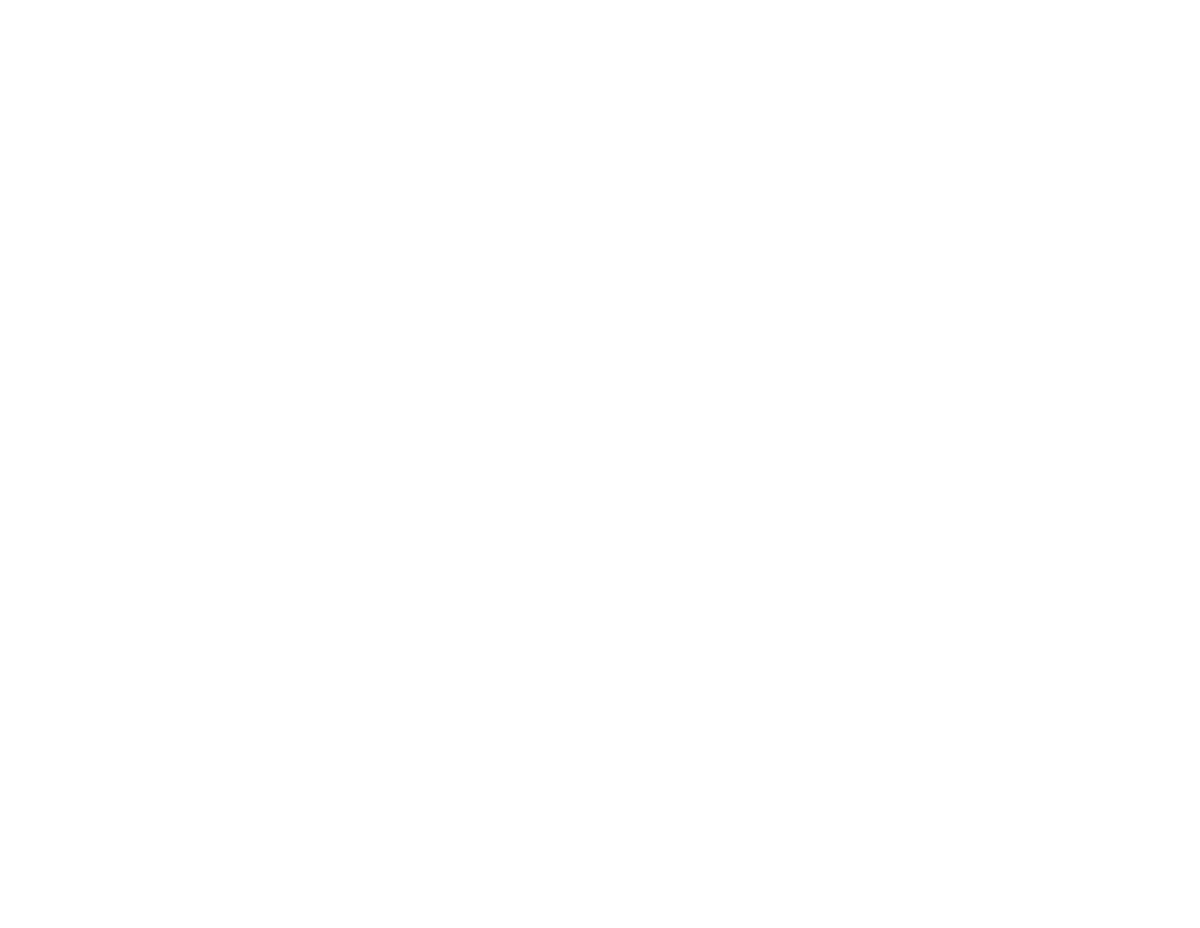
Электрификация штата Массачусетс. Нач.1990-х
В коллаже «Электрификация штата Массачусетс» в пустынный пейзаж с двумя бегущими лошадями американского художника Рокуэлла Кента внедрен красноармеец, подсоединяющий провода на высоком столбе.
Коллаж был задуман в трех вариантах: «одиночном» и двух «зеркальных», в каждом из которых заложены несколько различные смыслы. В первом, одиночном варианте, красноармеец, словно посланник иной реальности, оценивает масштаб предстоящей работы и раздумывает, как бы побыстрее ее окончить. В варианте, где два столба с красноармейцами в центре коллажа, возникает ощущение, что солдаты вглядываются вдаль с намерением присоединить новые территории. В варианте со столбами, стоящими по краям композиции, красноармейцы смотрят друг на друга, как сподвижники, которые делают одно дело на новой, уже захваченной ими территории. Здесь соединены несколько советских архетипов: идея бесконечного прогресса, бескрайность Страны Советов и необходимость мессианства в отсталых уголках планеты.
Коллаж был задуман в трех вариантах: «одиночном» и двух «зеркальных», в каждом из которых заложены несколько различные смыслы. В первом, одиночном варианте, красноармеец, словно посланник иной реальности, оценивает масштаб предстоящей работы и раздумывает, как бы побыстрее ее окончить. В варианте, где два столба с красноармейцами в центре коллажа, возникает ощущение, что солдаты вглядываются вдаль с намерением присоединить новые территории. В варианте со столбами, стоящими по краям композиции, красноармейцы смотрят друг на друга, как сподвижники, которые делают одно дело на новой, уже захваченной ими территории. Здесь соединены несколько советских архетипов: идея бесконечного прогресса, бескрайность Страны Советов и необходимость мессианства в отсталых уголках планеты.

Свобода на баррикадах. 1970‑е
Советская массовая культура в своей основе была мифологична, в ней восхвалялись подвиги титанов и героев. Массовое тиражирование канонических схем ролевого поведения в конечном итоге влияло на реальность.
В коллаже «Свобода на баррикадах» картину Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» дополняет врезка с «Рабочим и колхозницей». Великая французская революция требовала от человечества сверхусилий по преодолению своей человеческой сущности, эта идея повлекла за собой следующую, пришла концепция сверхчеловека, несокрушимого, непобедимого, идеального и жестокого: «Известные нам рабочий и колхозница за ней идет. Вот она минует нас, а они приблизятся».
В коллаже «Свобода на баррикадах» картину Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» дополняет врезка с «Рабочим и колхозницей». Великая французская революция требовала от человечества сверхусилий по преодолению своей человеческой сущности, эта идея повлекла за собой следующую, пришла концепция сверхчеловека, несокрушимого, непобедимого, идеального и жестокого: «Известные нам рабочий и колхозница за ней идет. Вот она минует нас, а они приблизятся».
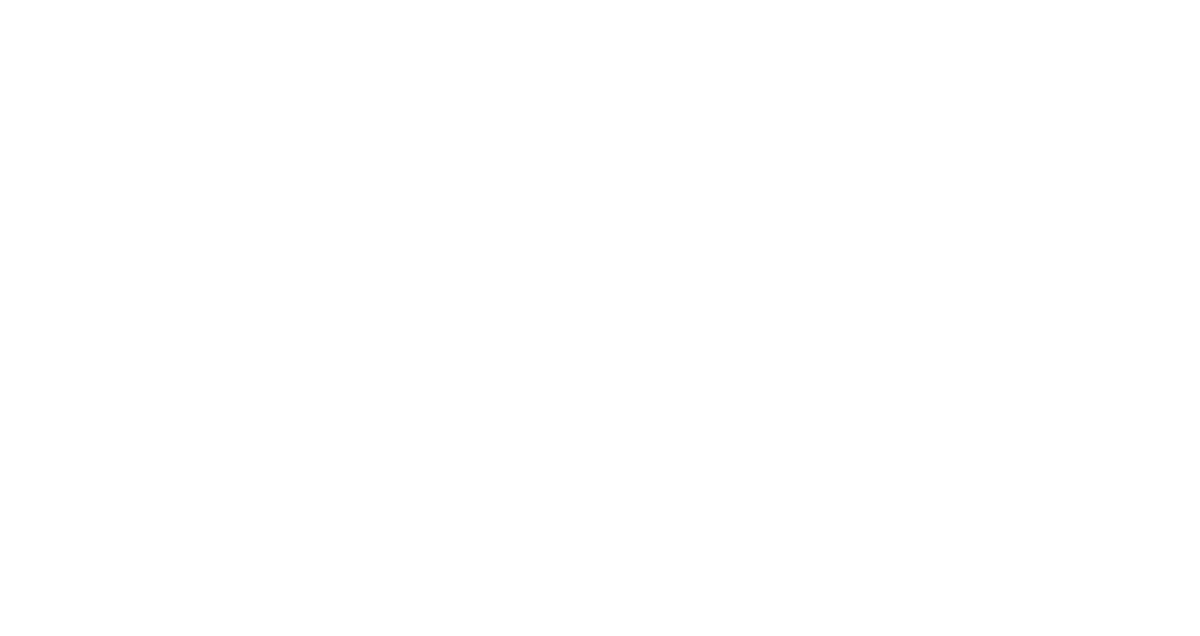
На краю. 1975
Монструозные титаны на краю Земли, где одни камни, «они пришли из того мира, водного, сюда», из нечеловеческого мира. «Рабочий — супермен, как Шварценеггер. Колхозница помягче, но суть, наверное, у нее та же. Поэтому важно, что этот мир сверхъестественный и великолепный, такой… супер. Он нам представлен».
Поясное изображение статуи расположено на горизонте, что дополнительно увеличивает ее исполинский размер.
Поясное изображение статуи расположено на горизонте, что дополнительно увеличивает ее исполинский размер.
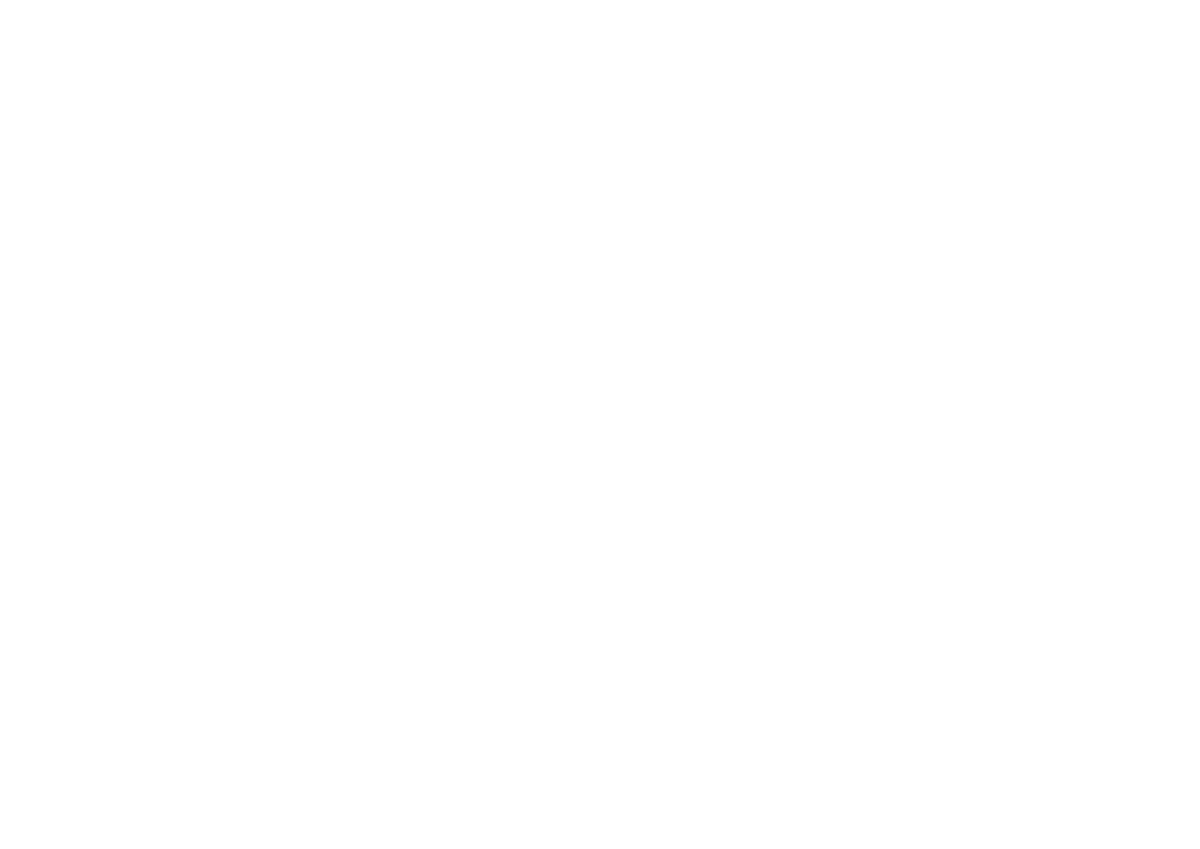
В голубом просторе. 1990‑е
Ирреальный идеал был достигнут в идеальных людях, трансформация завершилась в коллаже «В голубом просторе»: тот же пейзаж с картины А. И. Рылова «В голубом просторе», но титаны дошли до мира людей, и теперь физкультурники оказались на переднем плане. Гущин сравнивает эту серию с картиной Эрика Булатова «Дверь открыта»: «Дверь, которая так приоткрыта, а за ней еще… так и здесь. Вот они радуются. Чему-то радуются. Чего-то ждут».
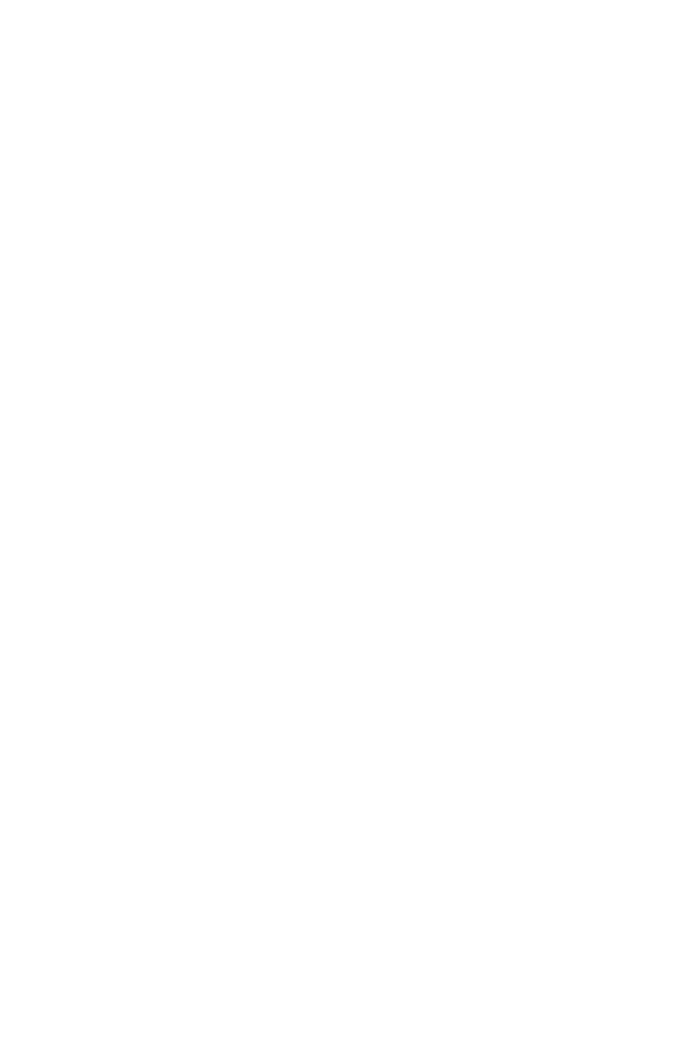
Дерево
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
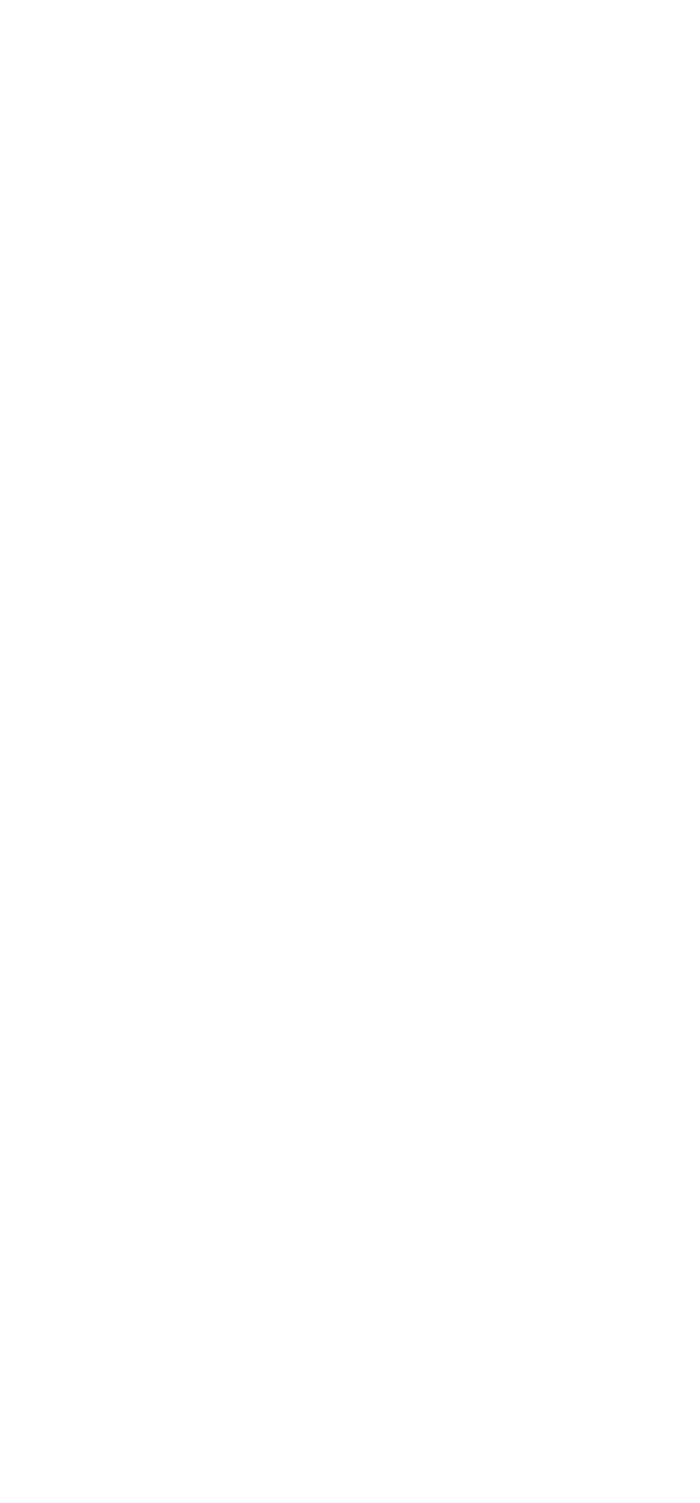
Дерево
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
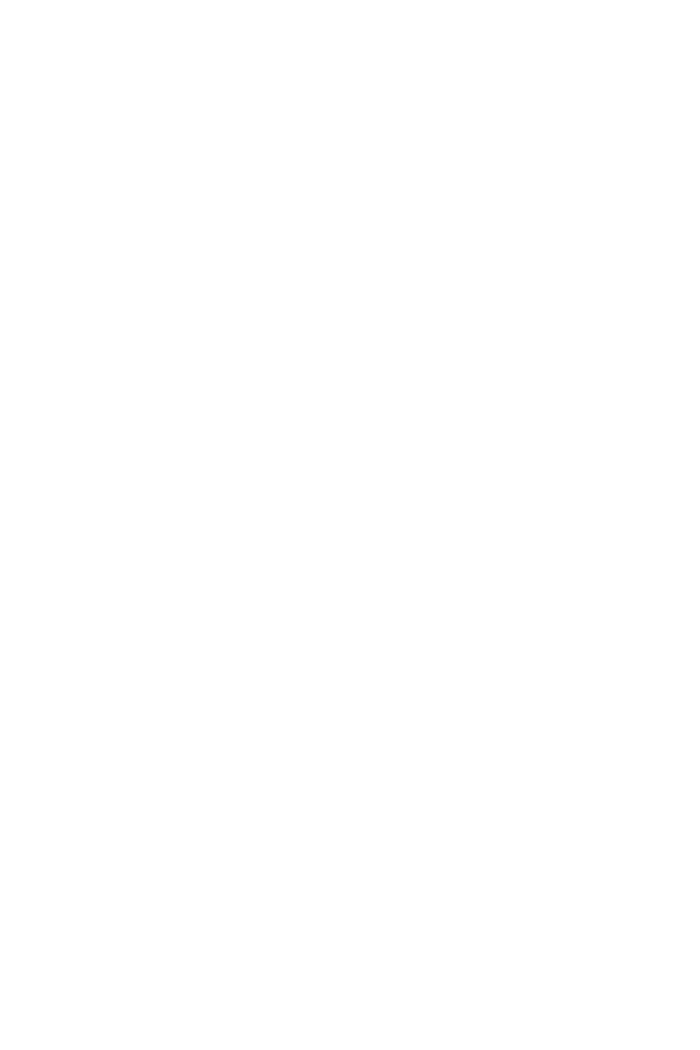
Дерево
42х28х20
Частное собрание, Москва
42х28х20
Частное собрание, Москва
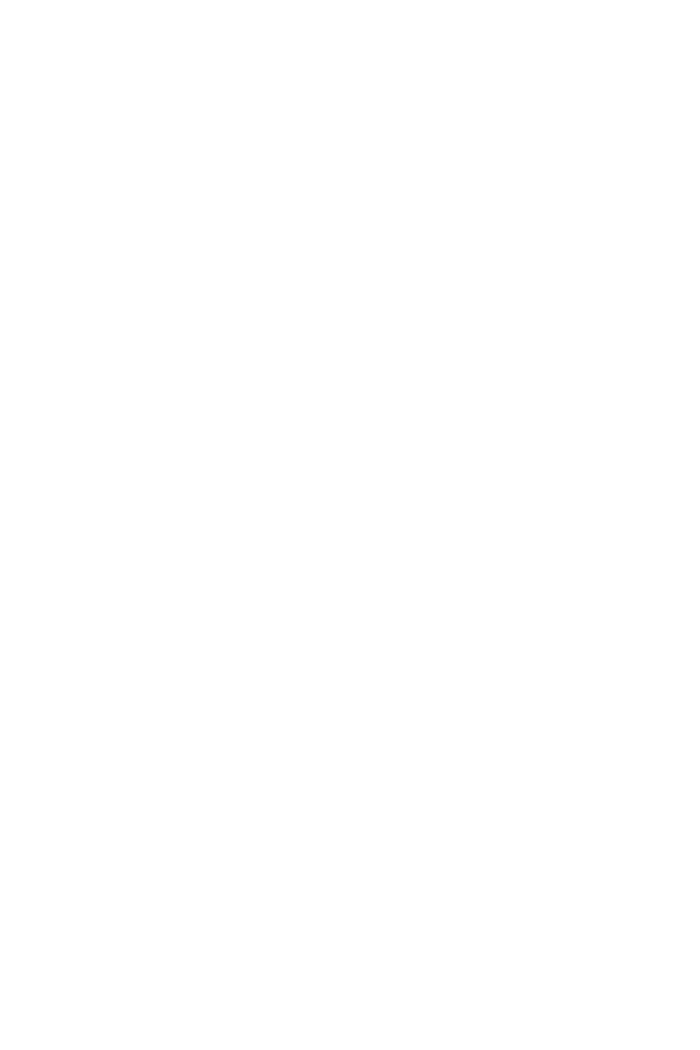
Дерево
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
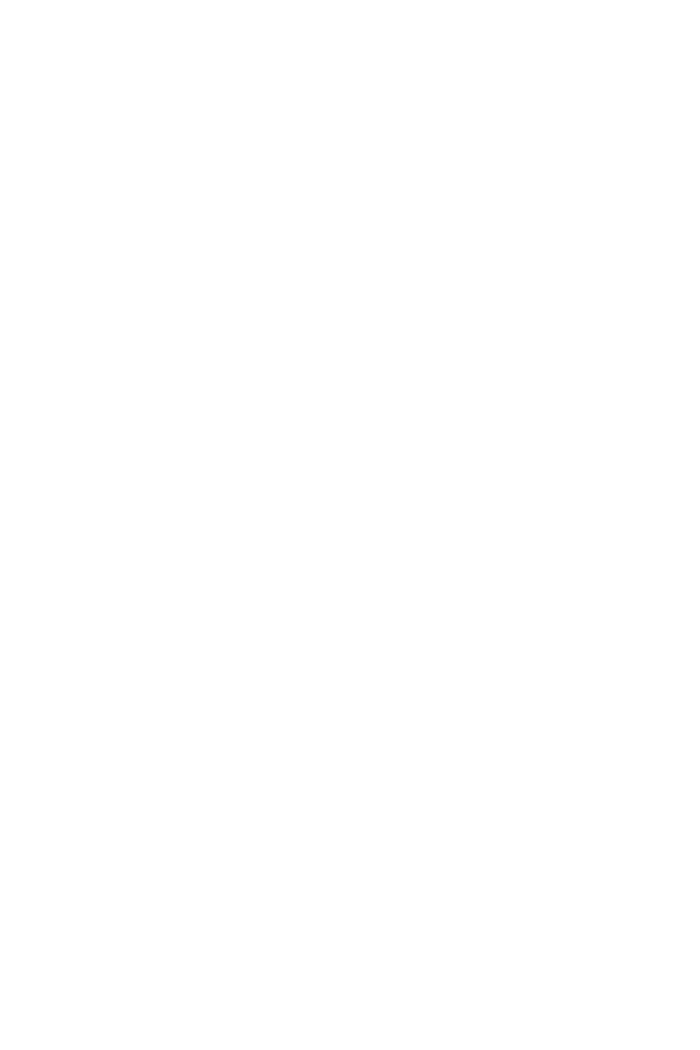
Дерево
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
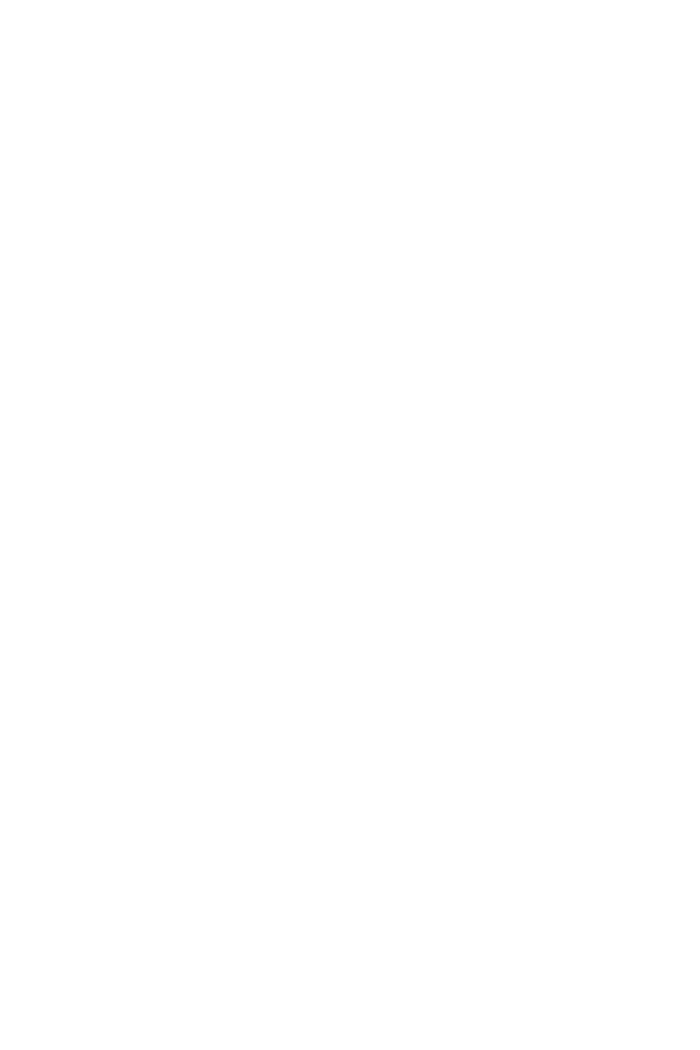
Дерево
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
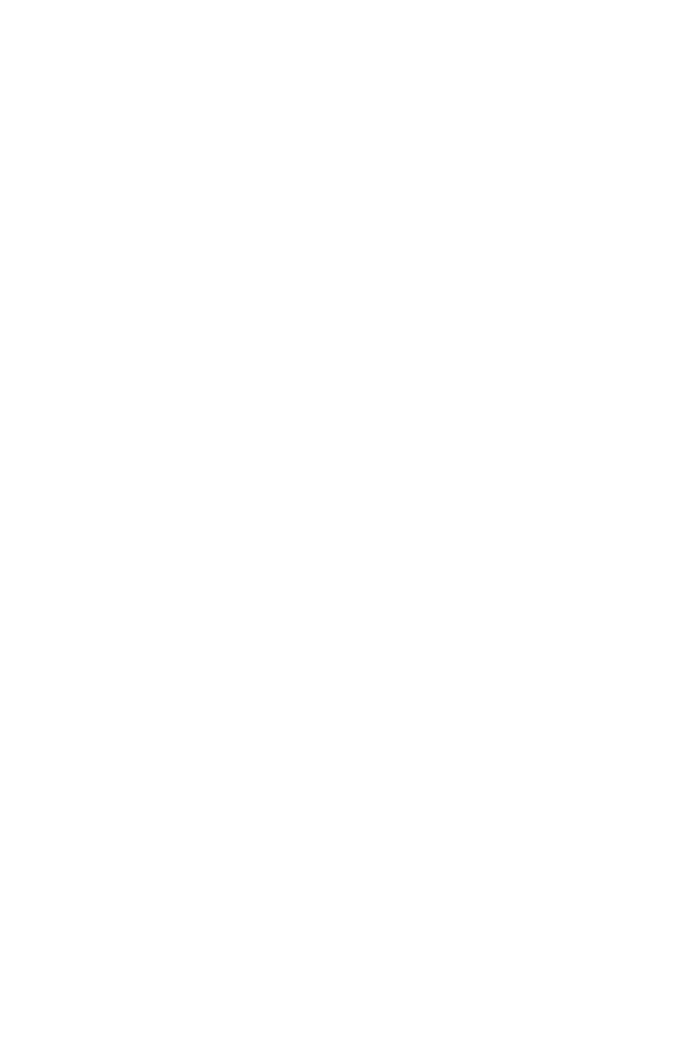
Дерево, металл
50х32х19
Частное собрание, Москва
50х32х19
Частное собрание, Москва
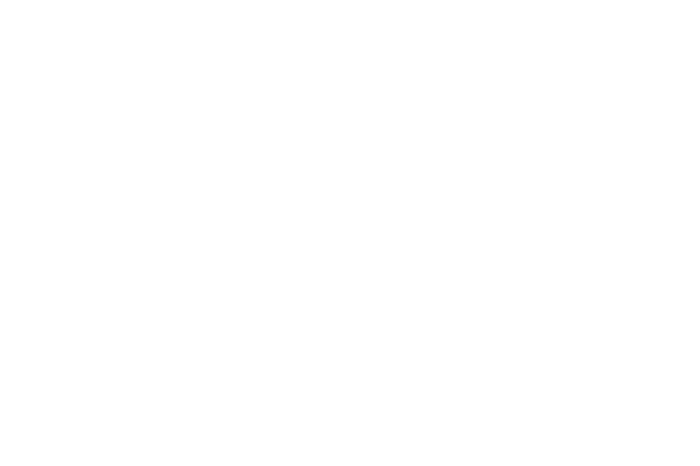
Керамика дерево
30х42х24
Частное собрание, Москва
30х42х24
Частное собрание, Москва
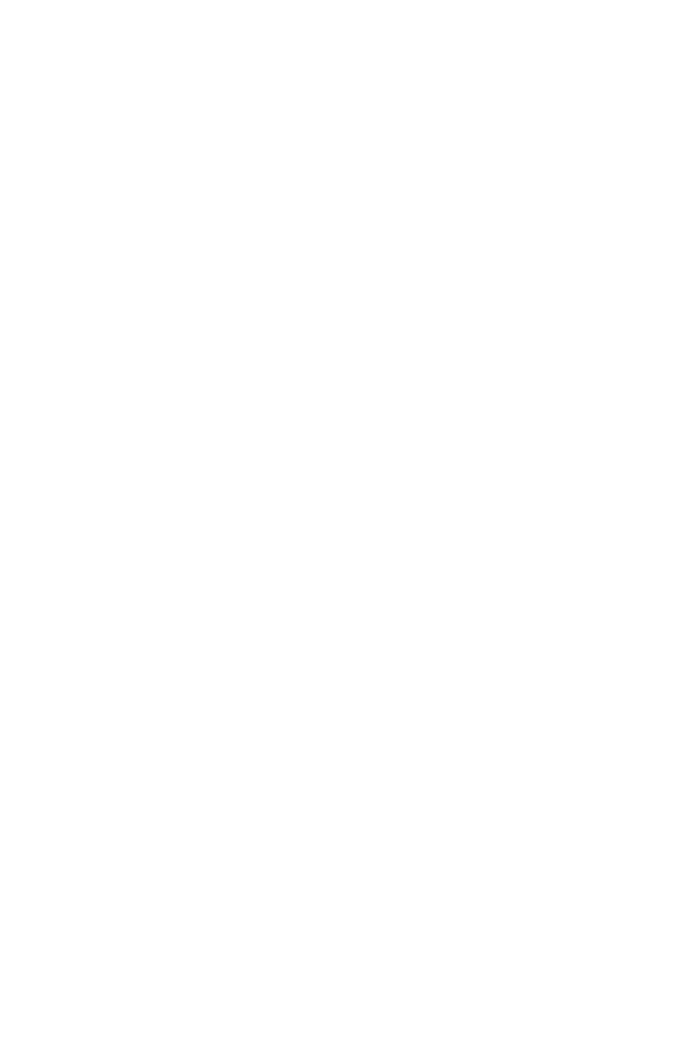
Медь, дерево
41х32х28
Частное собрание, Москва
41х32х28
Частное собрание, Москва
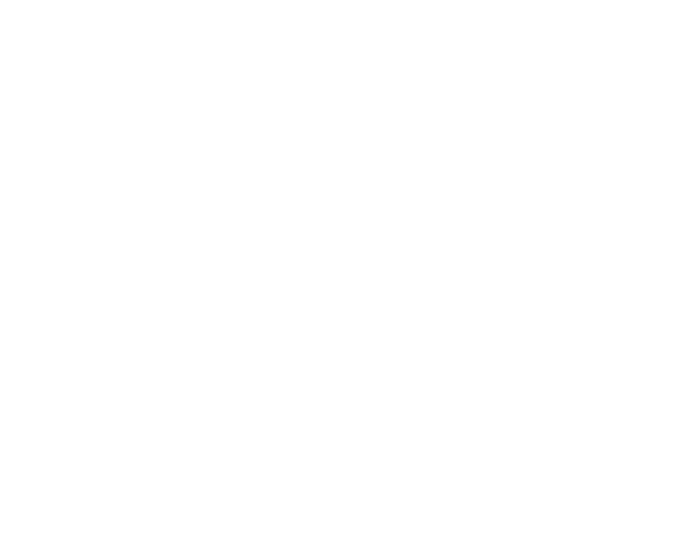
Металл, дерево
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
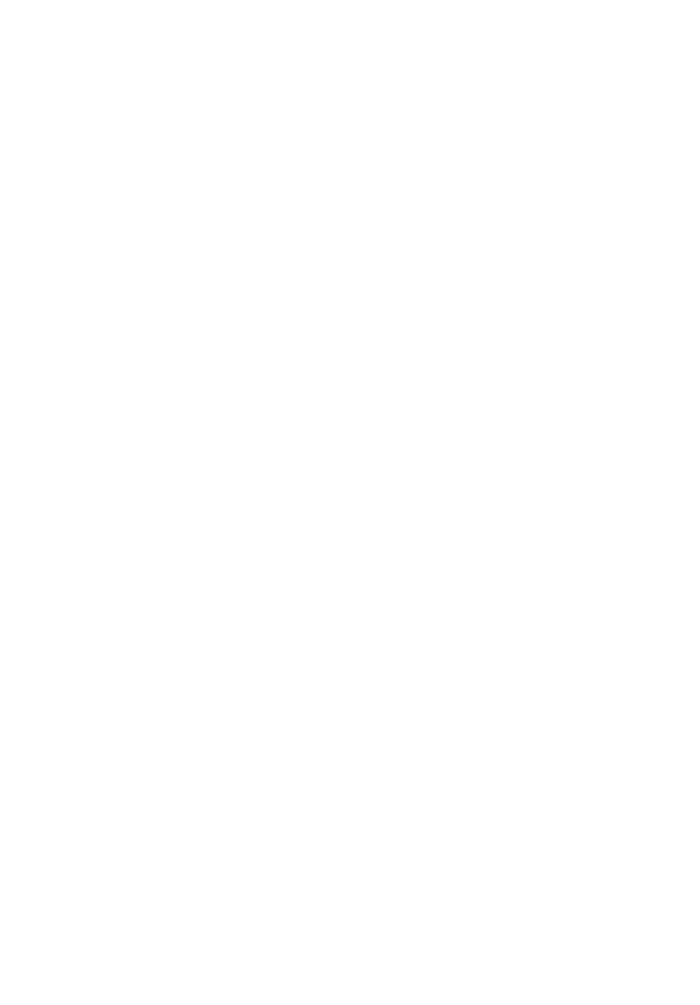
Часть триптиха
Дерево, металл
69х90х6
Собственность семьи художника, Москва
Дерево, металл
69х90х6
Собственность семьи художника, Москва
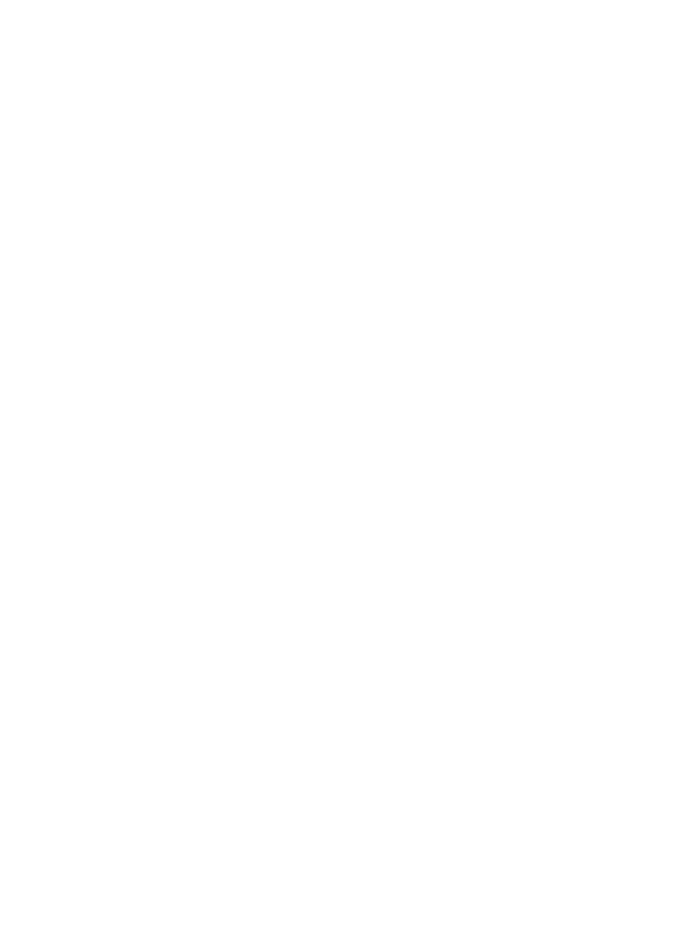
Часть триптиха
Дерево, металл
69х90х6
Собственность семьи художника, Москва
Дерево, металл
69х90х6
Собственность семьи художника, Москва
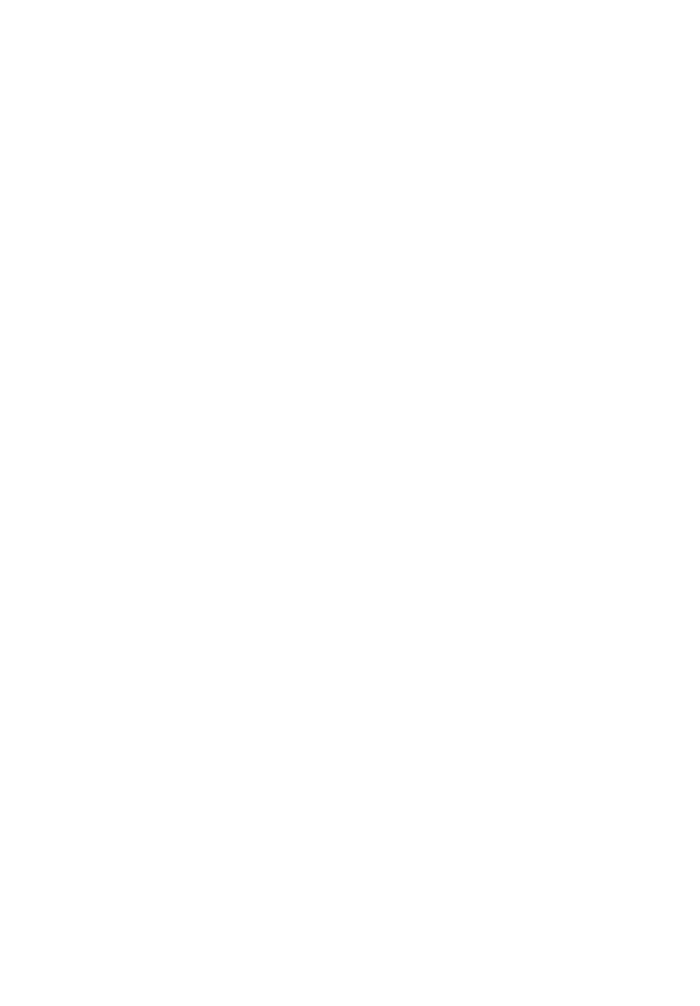
Часть триптиха
Дерево, металл
69х90х6
Собственность семьи художника, Москва
Дерево, металл
69х90х6
Собственность семьи художника, Москва
Иллюстрации
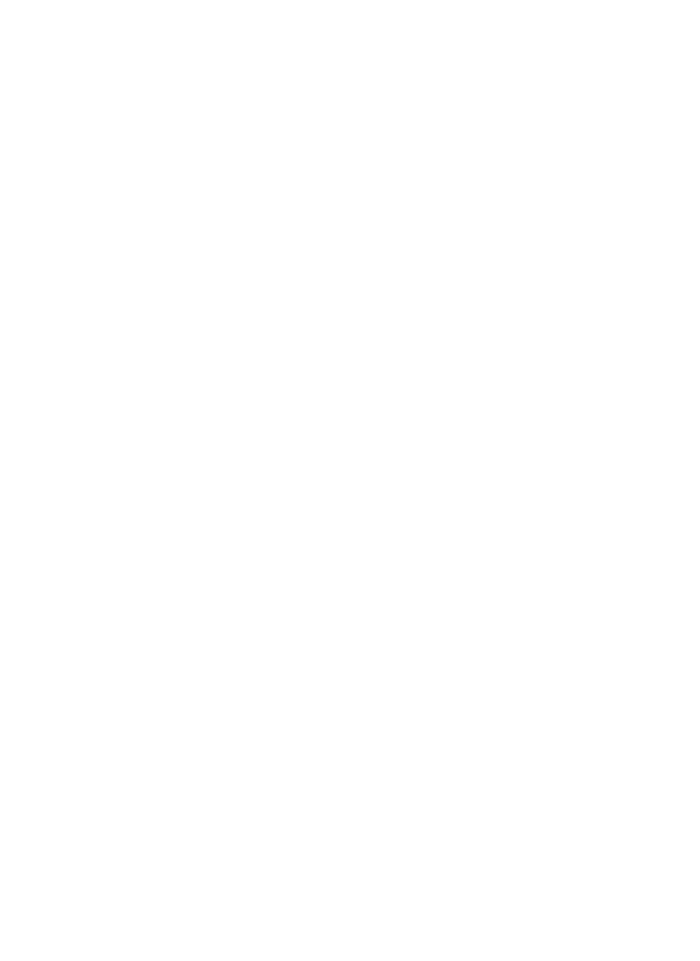
«Королевская невеста» (Обложка) (1968)
Бумага, тушь, гуашь, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Бумага, тушь, гуашь, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
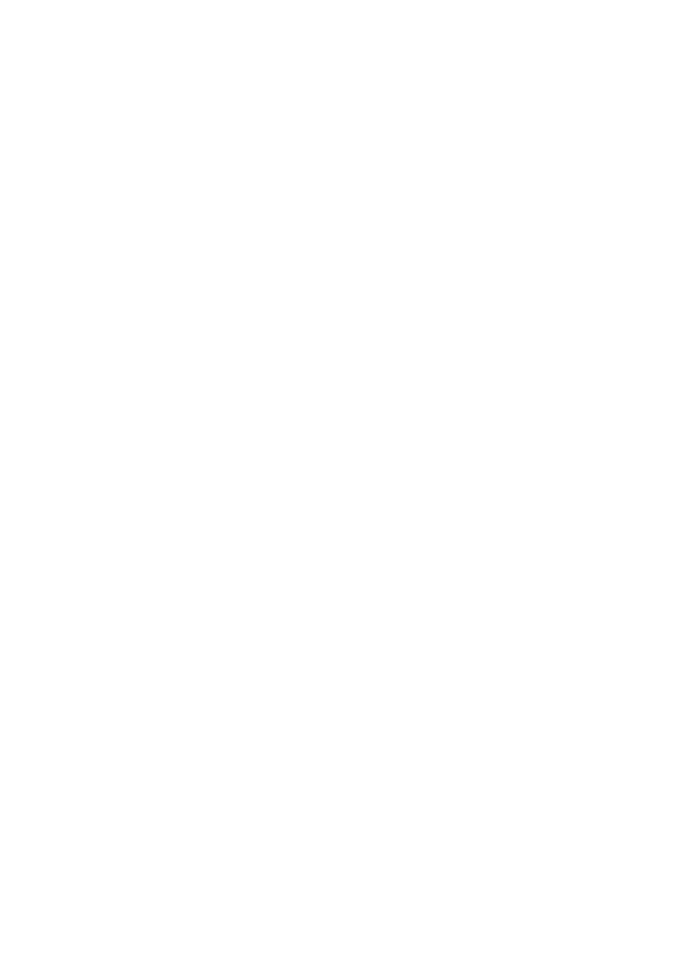
«Королевская невеста» (Дапсуль Фон Цабельтау) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь 20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь 20.2×29.4
Частное собрание, Москва
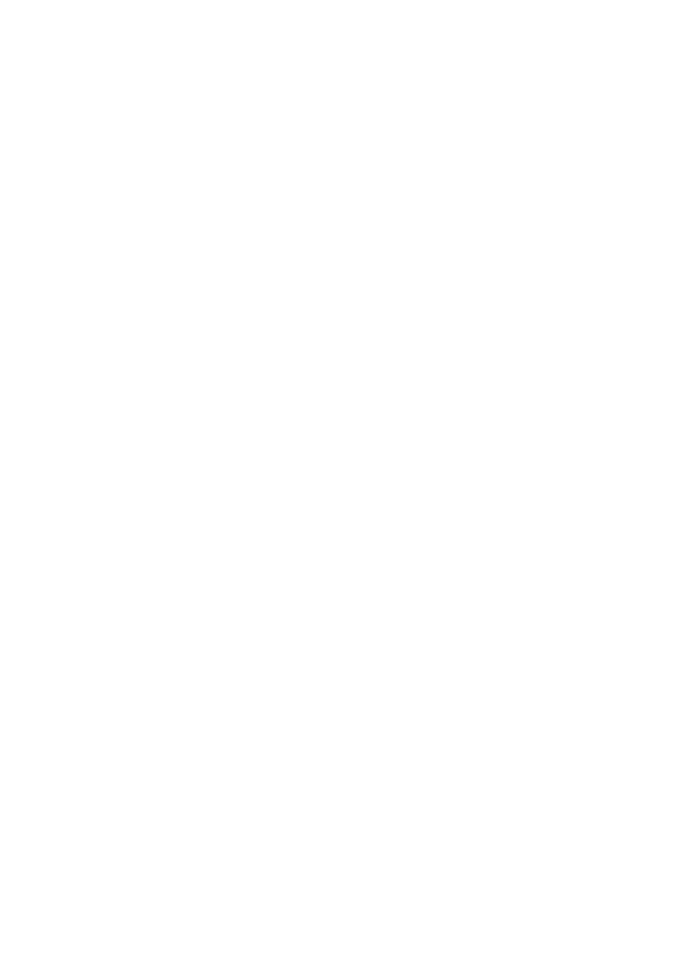
«Королевская невеста» (Амандус Фон Небельштерн) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь 20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь 20.2×29.4
Частное собрание, Москва

«Королевская невеста» (Фрейлейн Аннхен) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
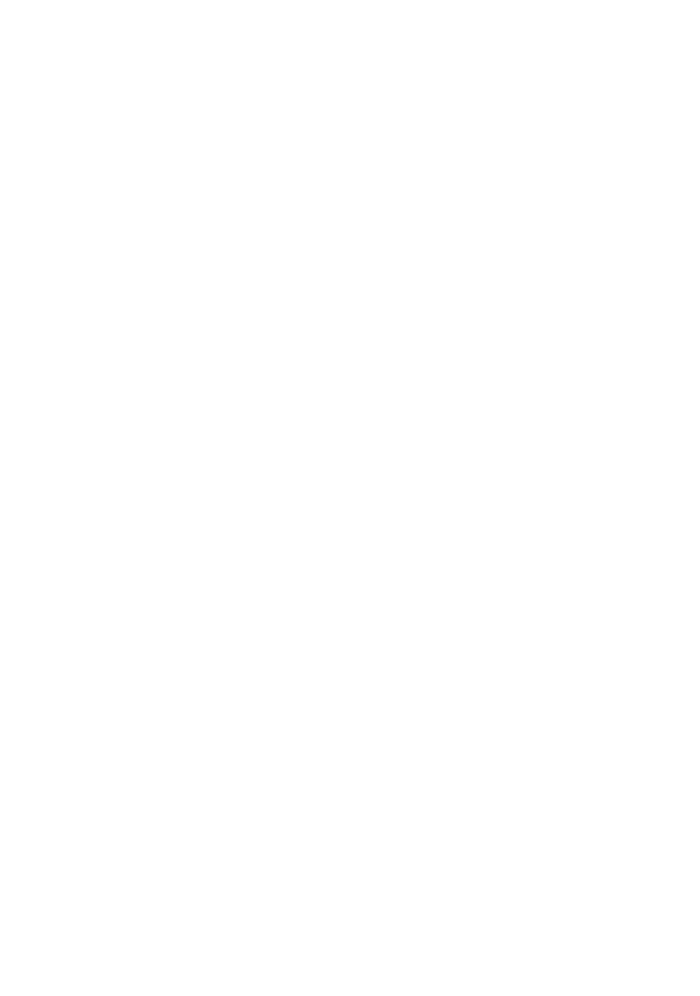
«Королевская невеста» (Фрейлейн Аннхен) (1968)
Бумага, тушь, цветные карандаши
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Бумага, тушь, цветные карандаши
20.2×29.4
Частное собрание, Москва

«Королевская невеста» (Кордуаншпиц. Даукус Карота I) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
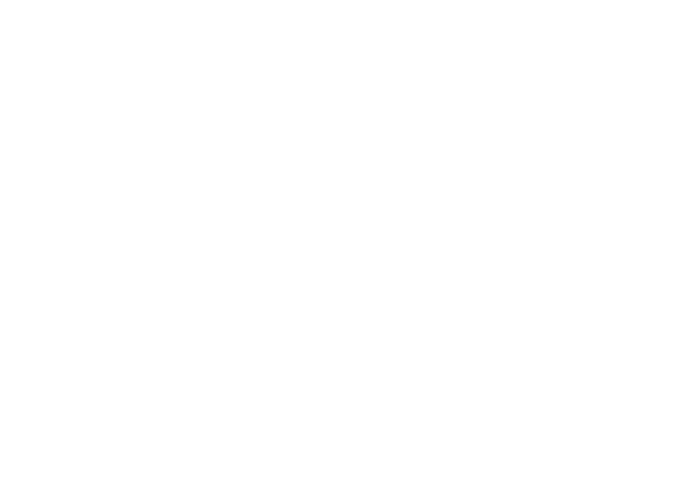
«Королевская невеста» (1968)
Бумага, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Бумага, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
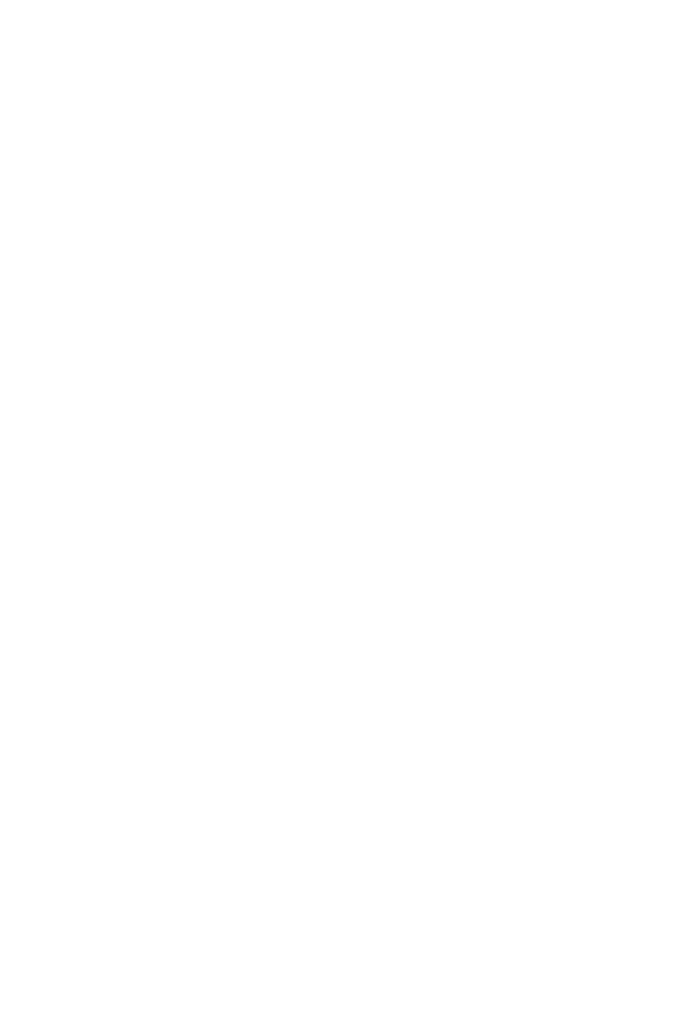
«Королевская невеста» (1968)
Бумага, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Бумага, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
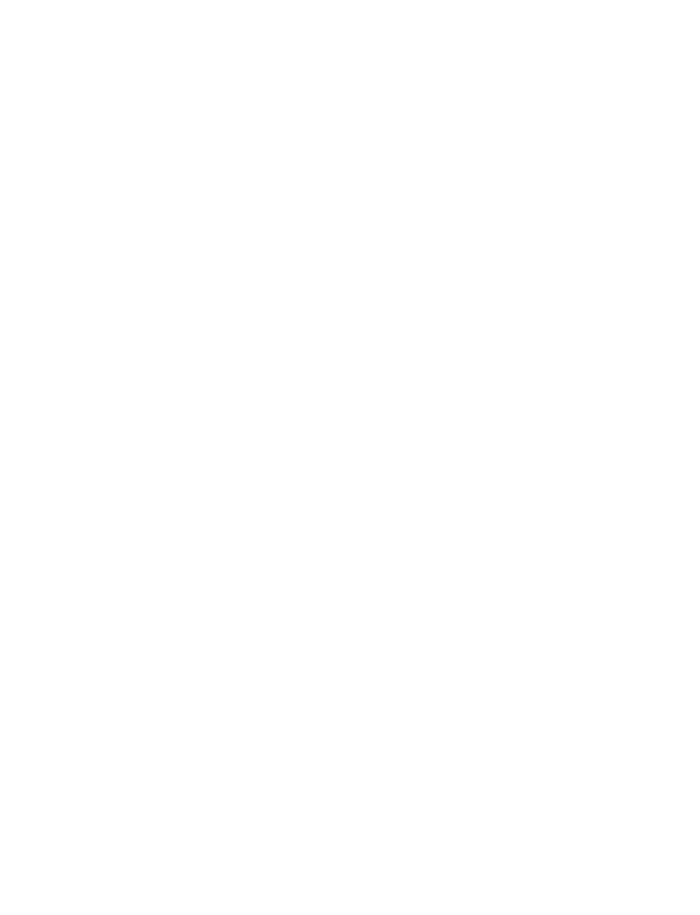
«Королевская невеста» (1968)
Бумага, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Бумага, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
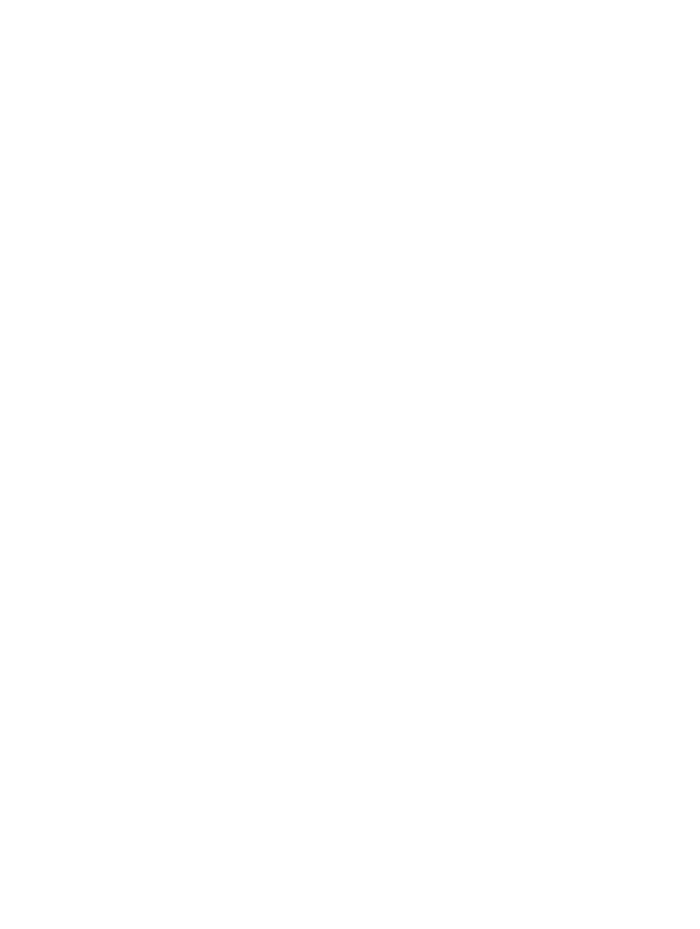
«Королевская невеста» (1968)
Бумага, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
Бумага, карандаш
20.2×29.4
Частное собрание, Москва
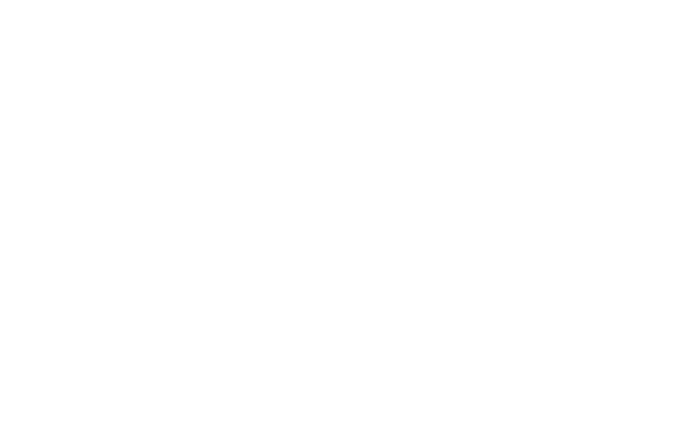
«О стрелке» (Король и принцесса) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь 34.8×20.1
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь 34.8×20.1
Частное собрание, Москва
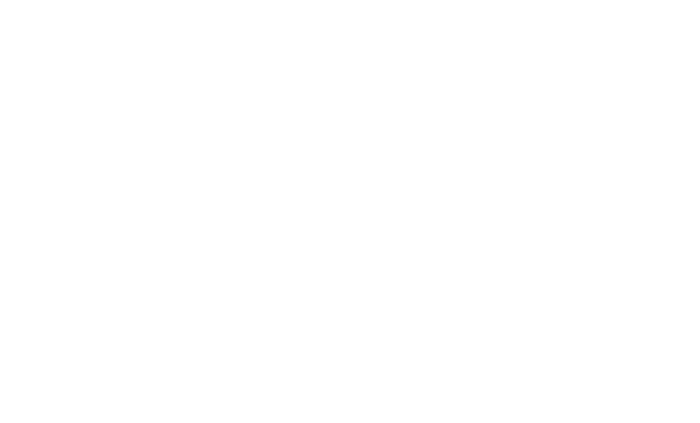
«О стрелке» (Чудо-Юдо) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь 34.5×20.2
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь 34.5×20.2
Частное собрание, Москва
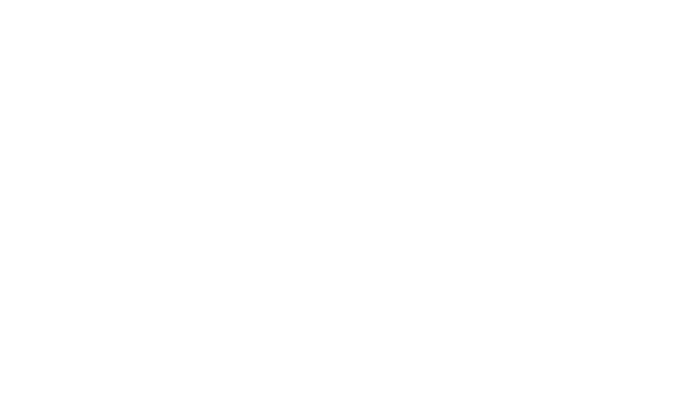
«О стрелке» (Стрелок на чудо-юде) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь 34.5×20.2
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь 34.5×20.2
Частное собрание, Москва
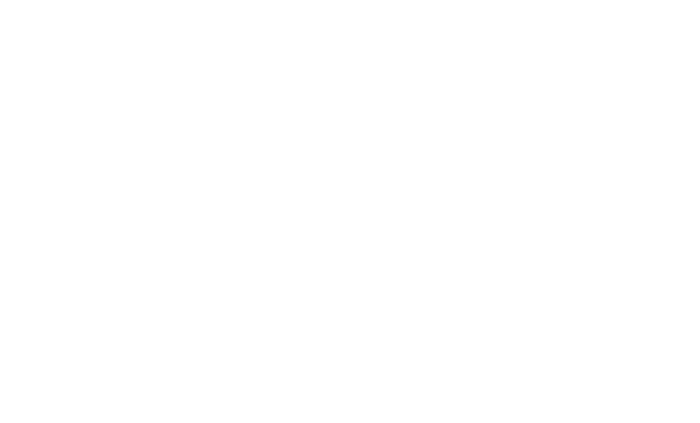
«О стрелке» (Королевский стрелок) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь 34.5×20.1
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь 34.5×20.1
Частное собрание, Москва
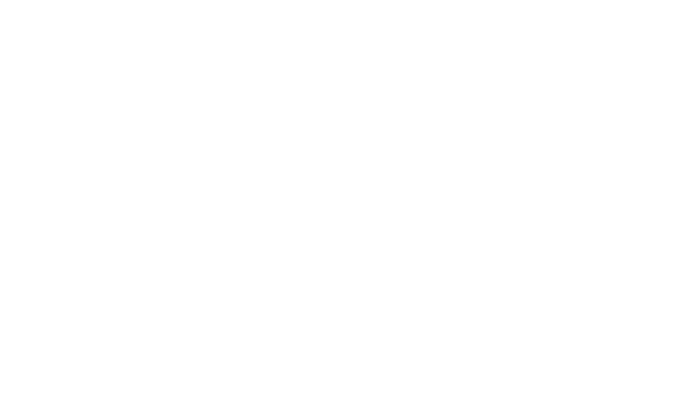
«О нечисти» (№ 1) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь 35.5×19.8
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь 35.5×19.8
Частное собрание, Москва
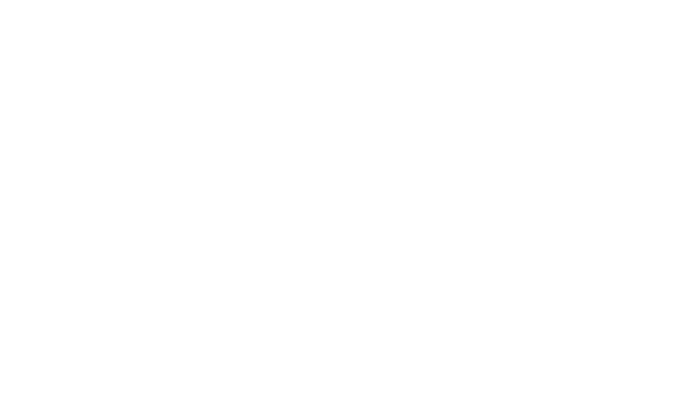
«О нечисти» (№ 2) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь 35.8×20
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь 35.8×20
Частное собрание, Москва

«О нечисти» (№ 3) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь
35.8×19.5
Частное собрание, Москва
Гербовая бумага 1848 г., тушь
35.8×19.5
Частное собрание, Москва

«О нечисти» (№ 4) (1968)
Гербовая бумага 1848 г., тушь
34.7×19.3
Частное собрание, Москва
«Иллюстрация к 4-му куплету не была закончена по причине драматических событий, происшедших в чаще леса.»
Гербовая бумага 1848 г., тушь
34.7×19.3
Частное собрание, Москва
«Иллюстрация к 4-му куплету не была закончена по причине драматических событий, происшедших в чаще леса.»
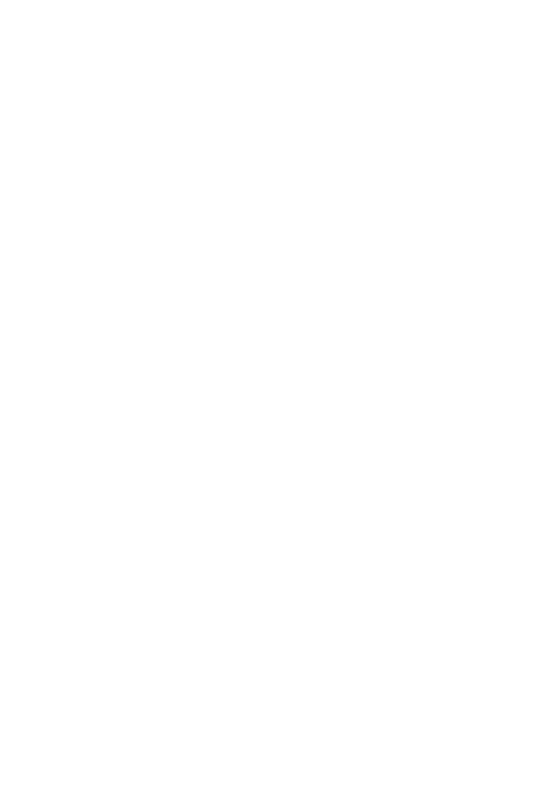
Бумага, тушь
21×36.
Частное собрание, Москва
21×36.
Частное собрание, Москва

Бумага, тушь
24×30.
Частное собрание, Москва
24×30.
Частное собрание, Москва
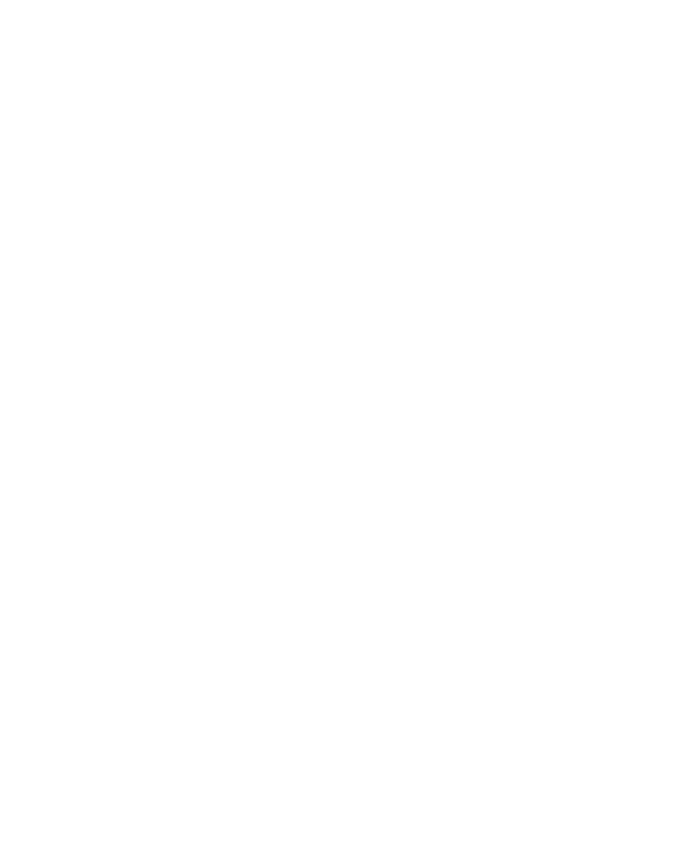
Бумага, тушь
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
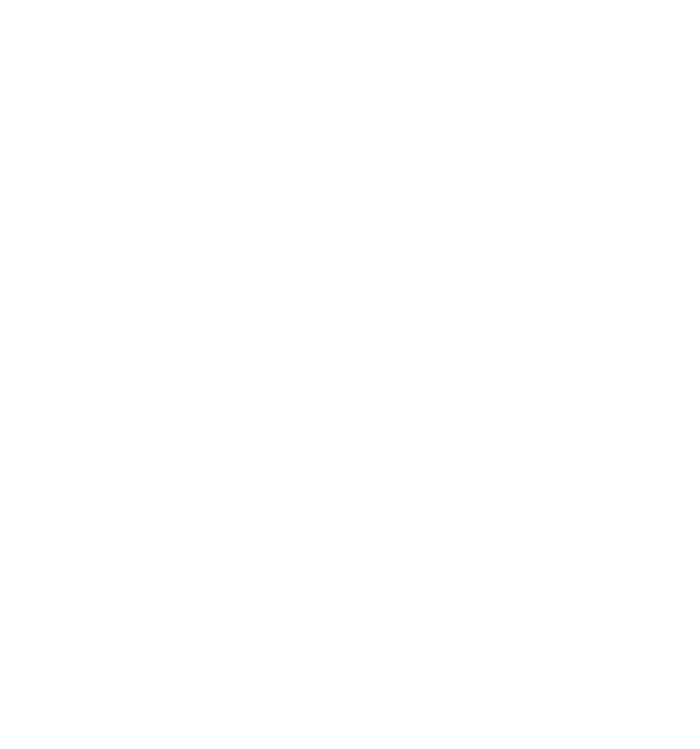
Бумага, тушь
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
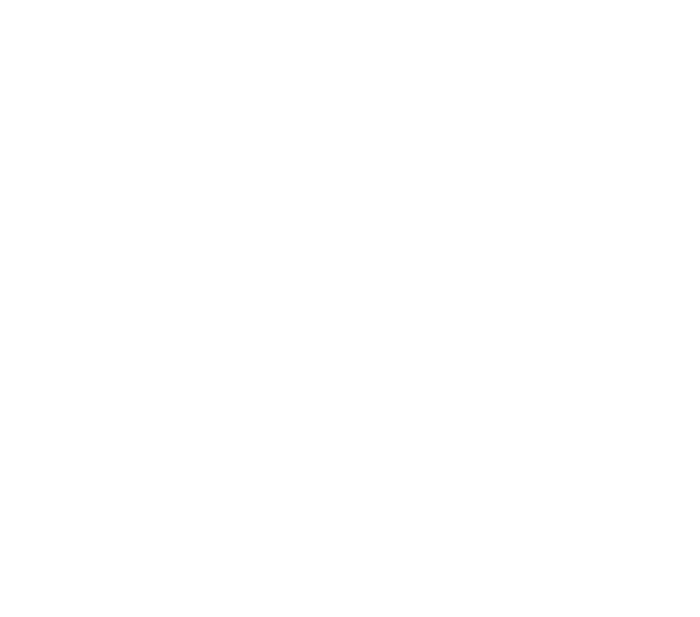
Бумага, тушь
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
Серия «ФОРМООБРАЗЫ (ПОИСКИ ФОРМЫ)»
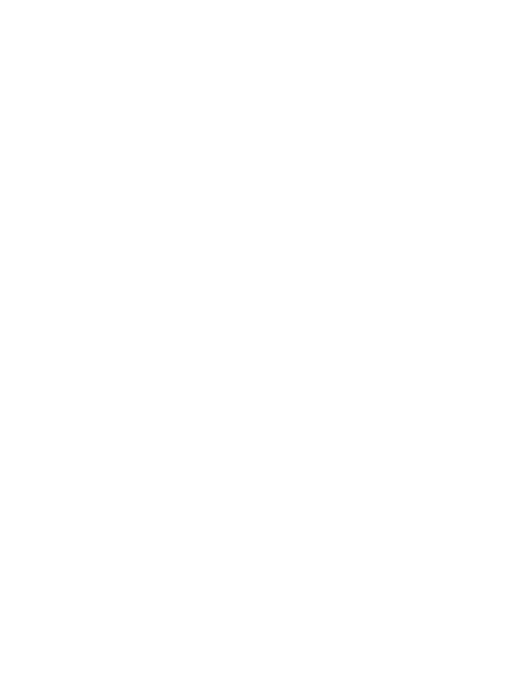
Бумага*, карандаш
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
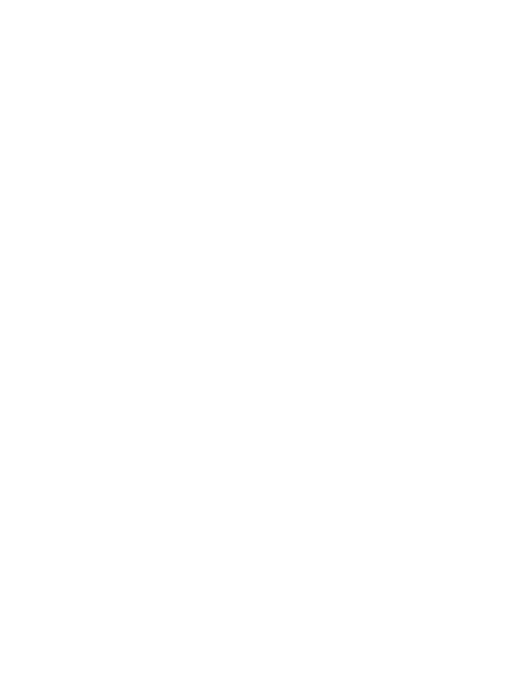
Бумага*, карандаш
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
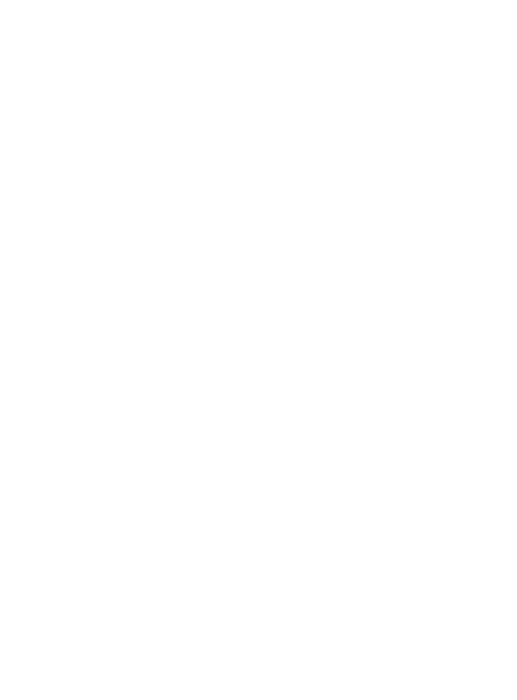
Бумага*, карандаш
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва

Бумага*, карандаш
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва

Бумага*, карандаш
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва

Бумага*, карандаш
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва

Бумага*, карандаш
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва

Бумага*, карандаш
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
*Рисунки выполнены на страницах книги CATASTO VITICOLO (Виноградарский кадастр Италии 1973 года)
Частное собрание, Москва
Серия «Архив»
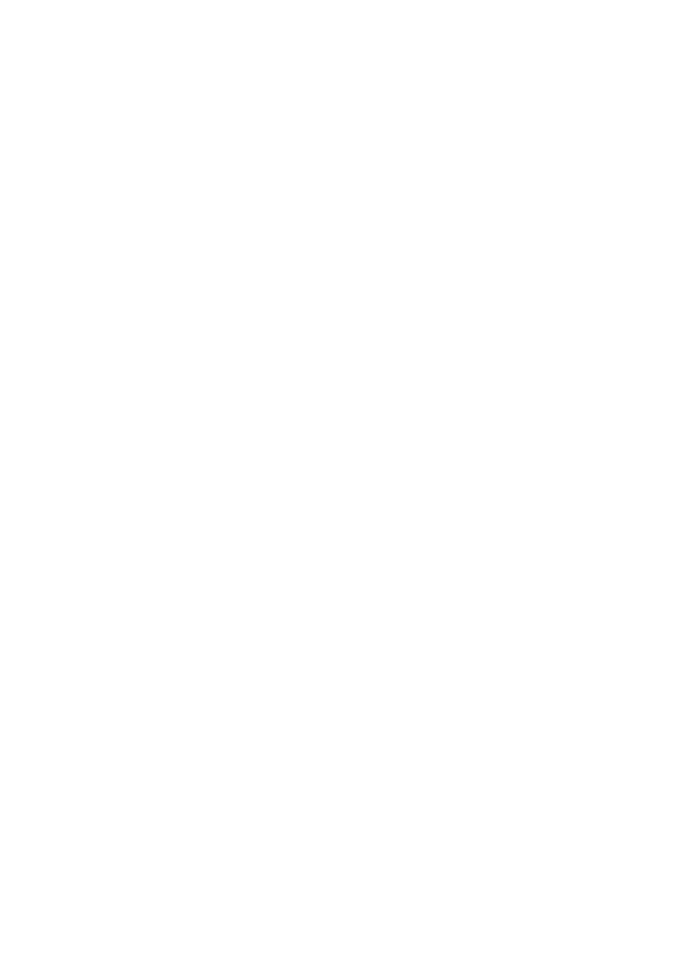
Бумага, тушь
19х32.5
Частное собрание, Москва
19х32.5
Частное собрание, Москва
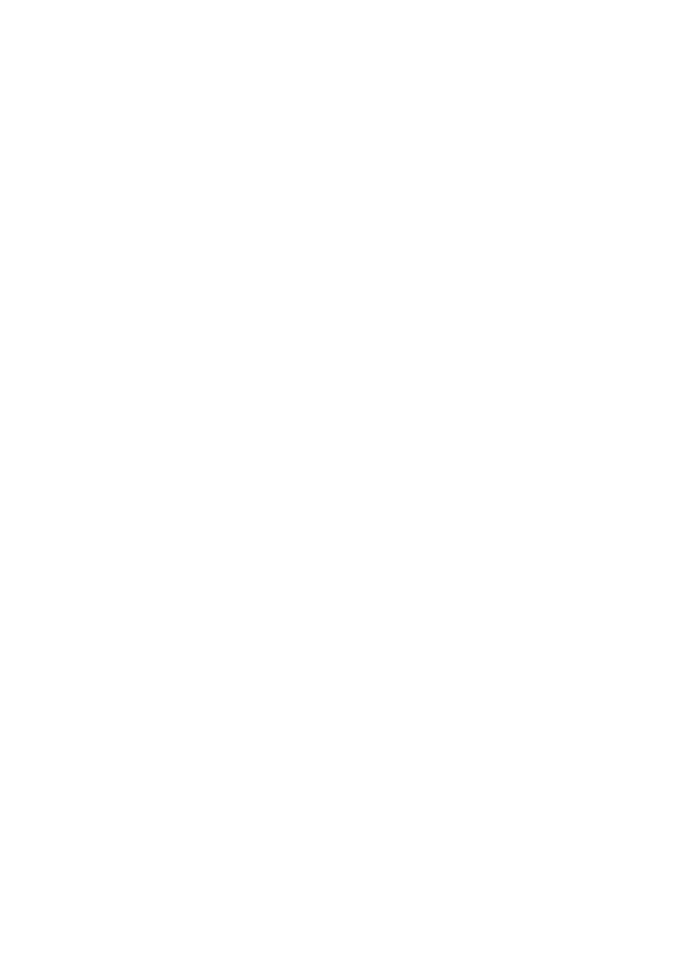
Бумага, тушь
31.7х43.8
Частное собрание, Москва
31.7х43.8
Частное собрание, Москва

Бумага, тушь
43.8х64.7
Частное Собрание, Москва
43.8х64.7
Частное Собрание, Москва
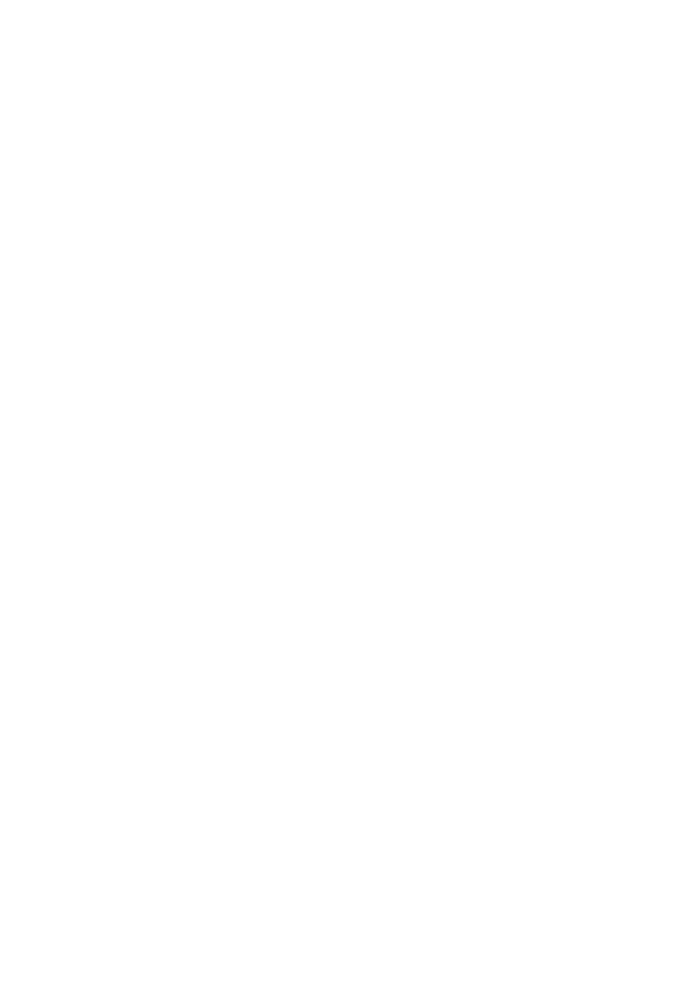
Бумага, тушь
18.7х31.5
Частное собрание, Москва
18.7х31.5
Частное собрание, Москва
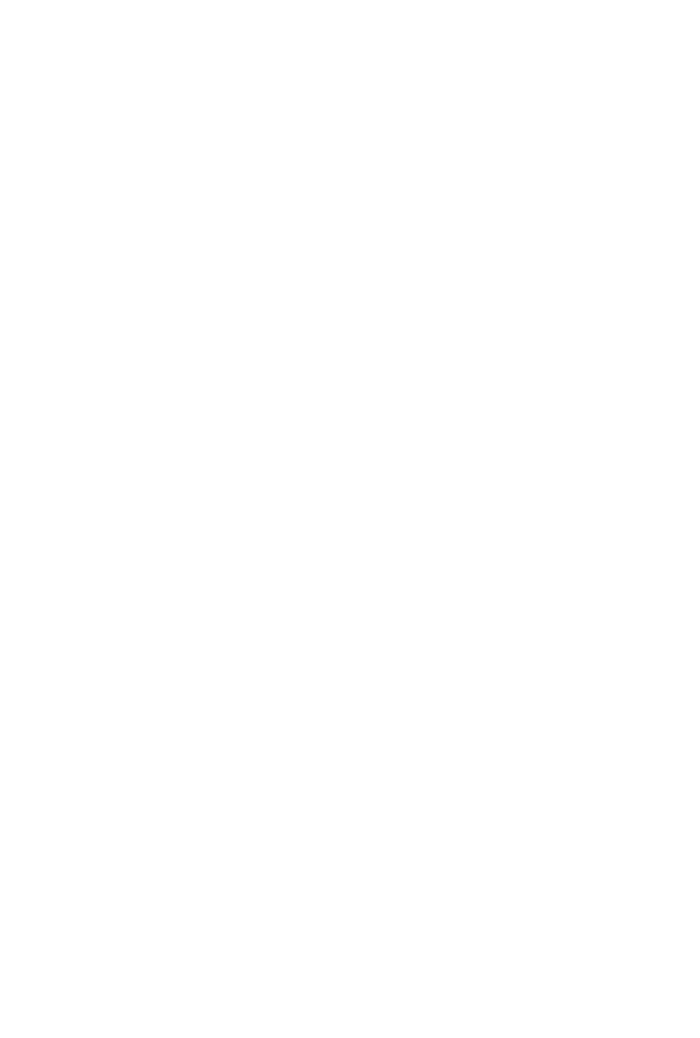
Бумага, тушь
18.7х31.5
Частное собрание, Москва
18.7х31.5
Частное собрание, Москва

Бумага, тушь
18.4х35
Частное собрание, Москва
18.4х35
Частное собрание, Москва
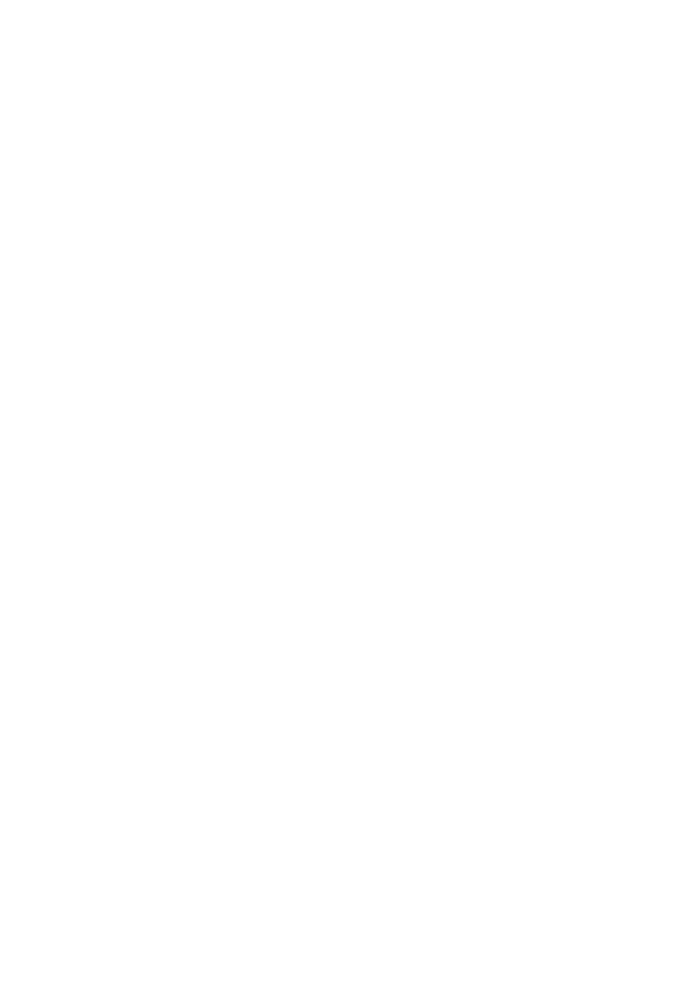
Бумага, карандаш
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
Серия «Структуры-82»
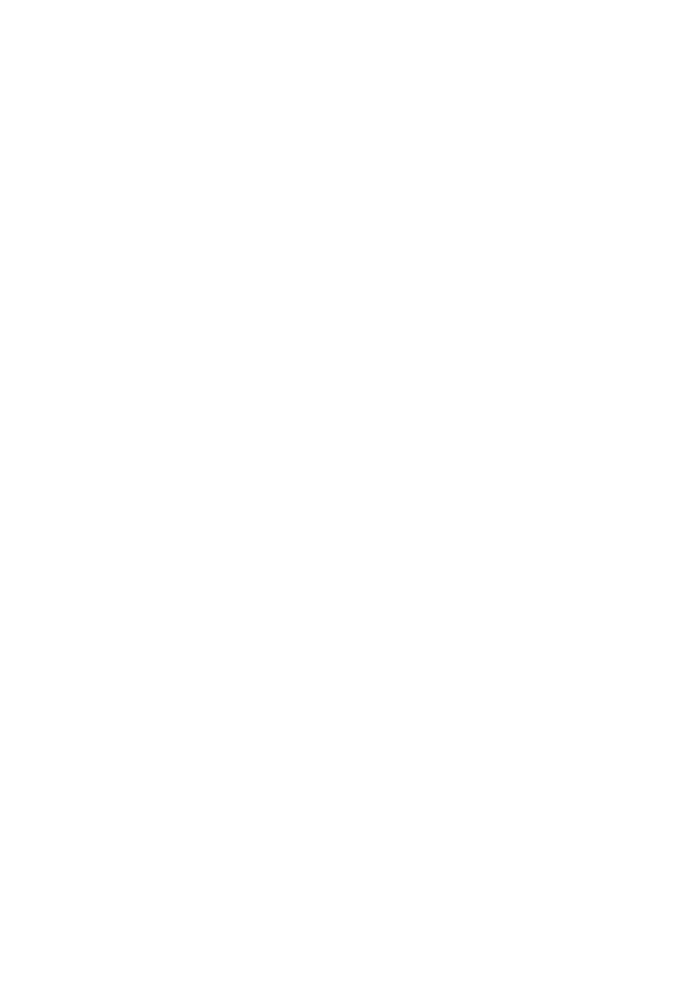
Бумага, карандаш
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
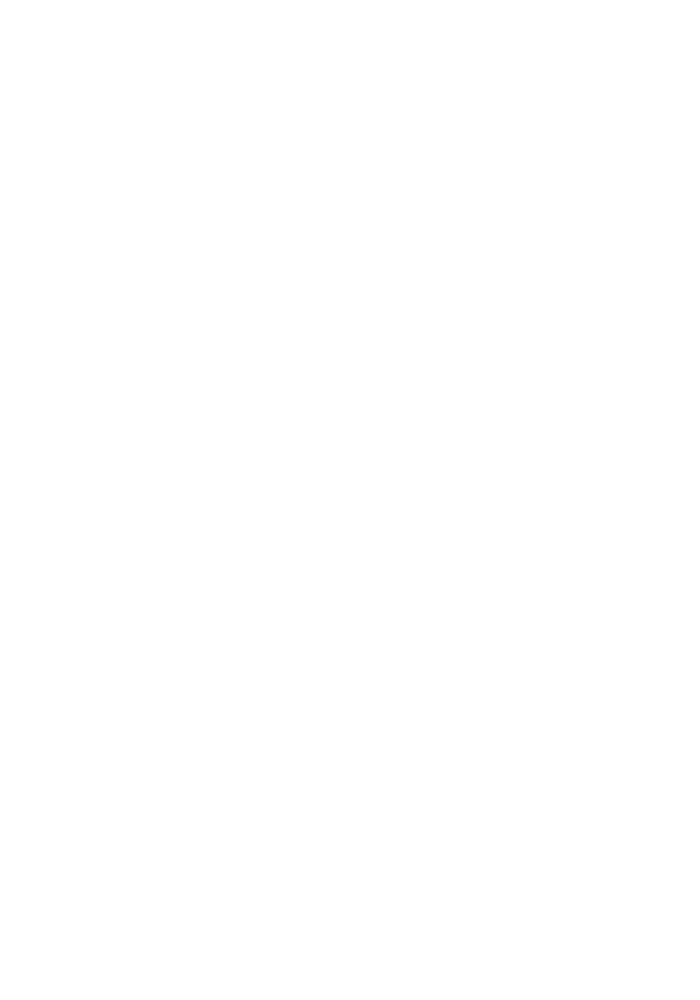
Бумага, карандаш
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
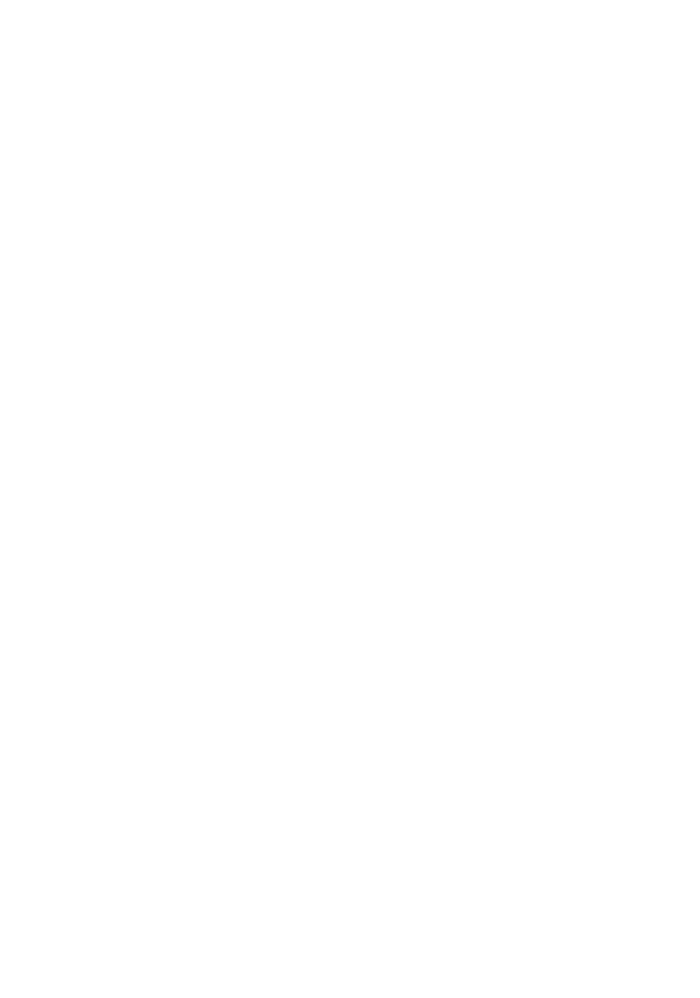
Бумага, карандаш
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
Серия «Структуры»

Бумага, карандаш
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
29.3х41.5
Частное собрание, Москва

Бумага, карандаш
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
29.3х41.5
Частное собрание, Москва

Бумага, фломастер
29.3×41.5
Частное собрание, Москва
29.3×41.5
Частное собрание, Москва

Бумага, карандаш
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
29.3х41.5
Частное собрание, Москва
Серия «Город»
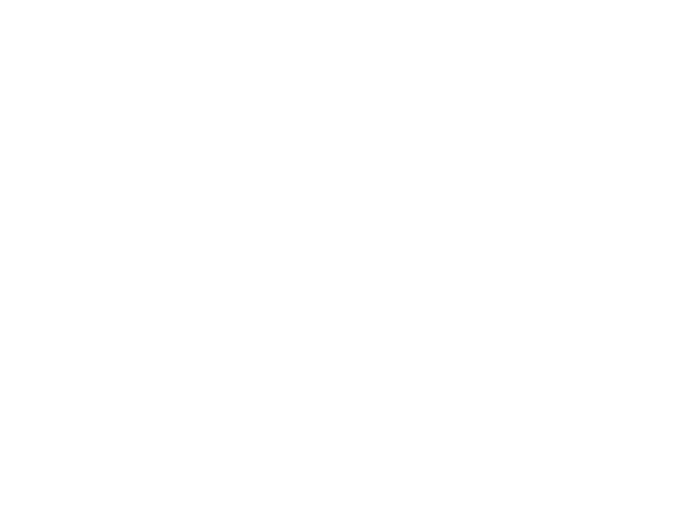
(из альбома №1)
Бумага, тушь
28.5х20.8
Частное собрание, Москва
Бумага, тушь
28.5х20.8
Частное собрание, Москва
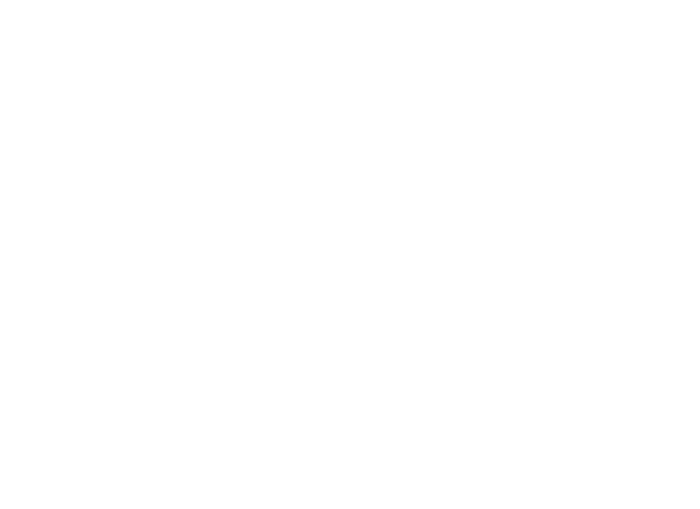
(из альбома №1)
Бумага, тушь
28.5х20.8
Частное собрание, Москва
Бумага, тушь
28.5х20.8
Частное собрание, Москва

(из альбома №1)
Бумага, тушь
28.5×20.8
Частное собрание, Москва
Бумага, тушь
28.5×20.8
Частное собрание, Москва
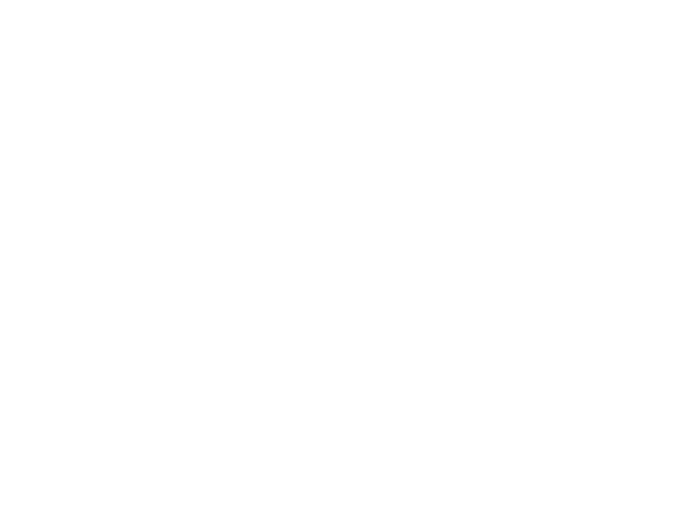
(из альбома №1)
Бумага, тушь
28.5х20.8
Частное собрание, Москва
Бумага, тушь
28.5х20.8
Частное собрание, Москва

(из альбома №1)
Бумага, тушь
28.5×20.8
Частное собрание, Москва
Бумага, тушь
28.5×20.8
Частное собрание, Москва
Серия «Из жизни земноводных, птиц и насекомых»
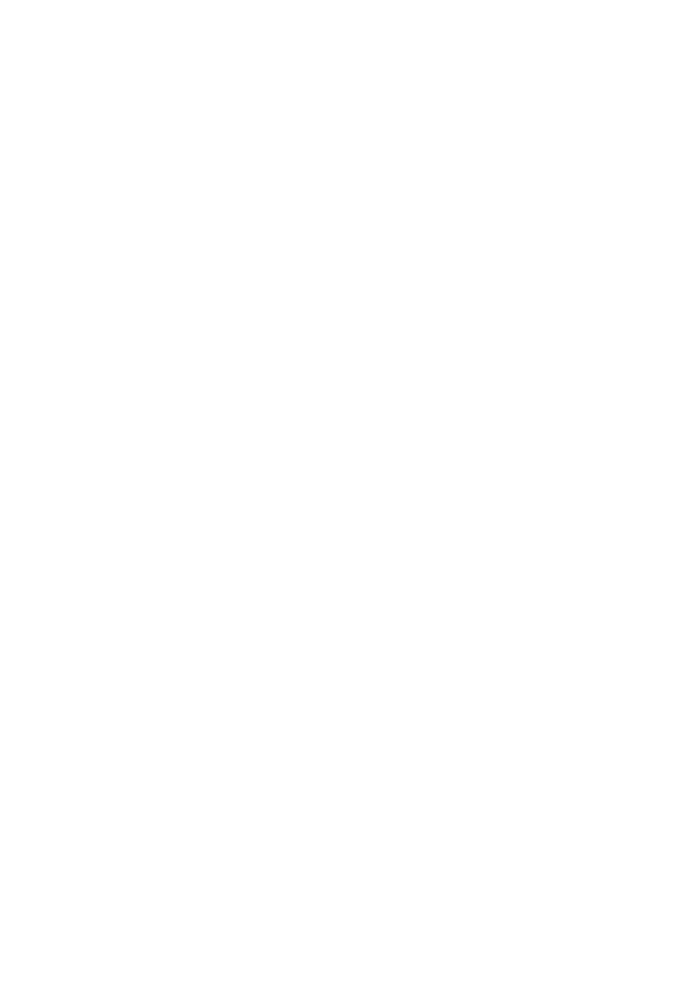
Бумага, карандаш
21х30
Частное собрание, Москва
21х30
Частное собрание, Москва
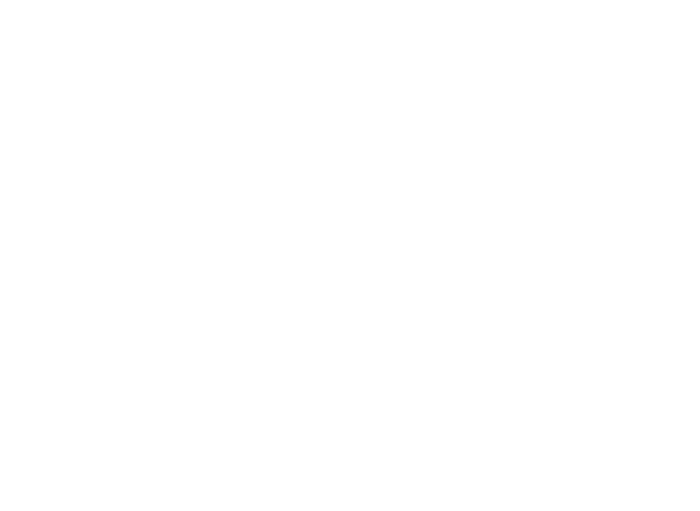
Бумага, карандаш
41.1х30.
Частное собрание, Москва
41.1х30.
Частное собрание, Москва

Бумага, карандаш
35.5х28.8
Частное собрание, Москва
35.5х28.8
Частное собрание, Москва

Бумага, карандаш ,
41х30
Частное собрание, Москва
41х30
Частное собрание, Москва

Бумага, карандаш
41×30
Частное собрание, Москва
41×30
Частное собрание, Москва
Автопортреты
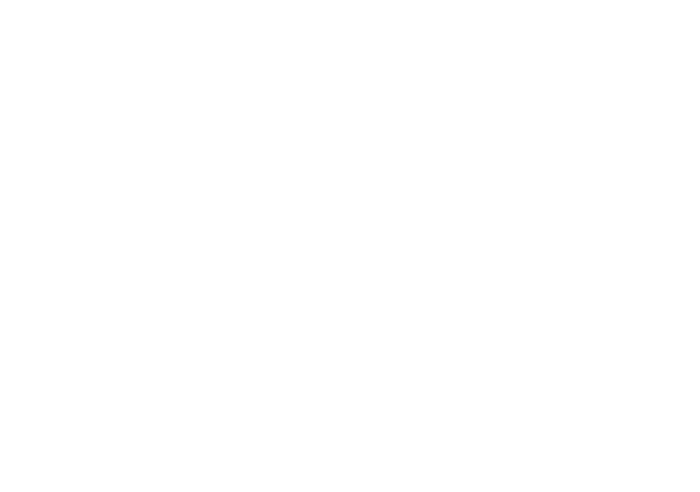
Бумага, сангина
86x61.7
Частное собрание, Москва
86x61.7
Частное собрание, Москва

Бумага, карандаш
57х85.8
Частное собрание, Москва
57х85.8
Частное собрание, Москва
Серия «Сновидения»
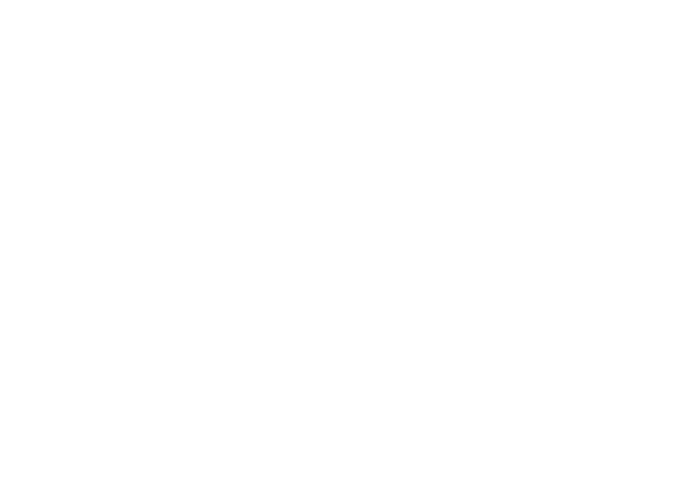
Бумага, чернила
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва

Бумага, тушь
28х36.2
Частное собрание, Москва
28х36.2
Частное собрание, Москва
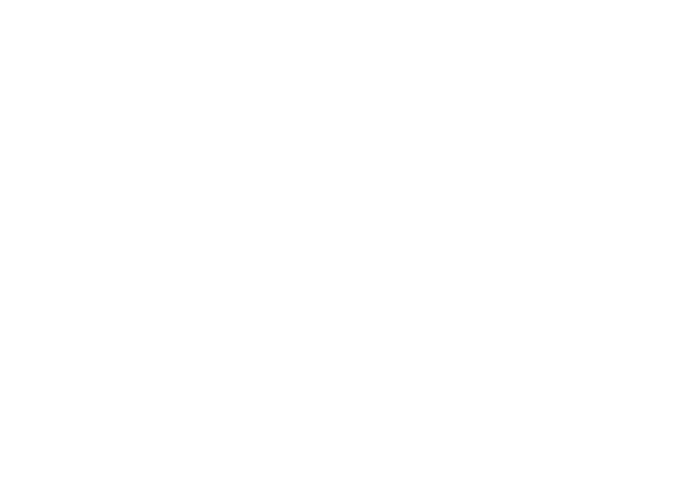
Ткань, шерсть
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
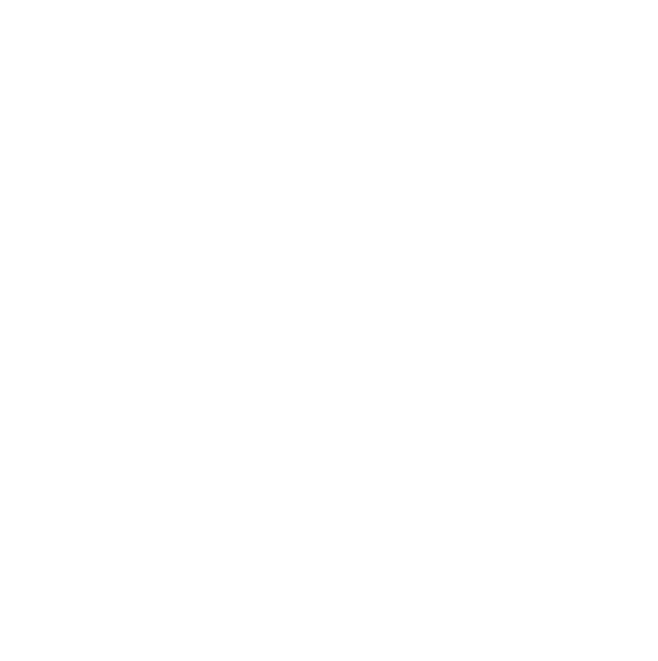
Ткань, шерсть. 95х95
Частное собрание, Москва
Частное собрание, Москва
СТРАНИЦА В РАЗРАБОТКЕ